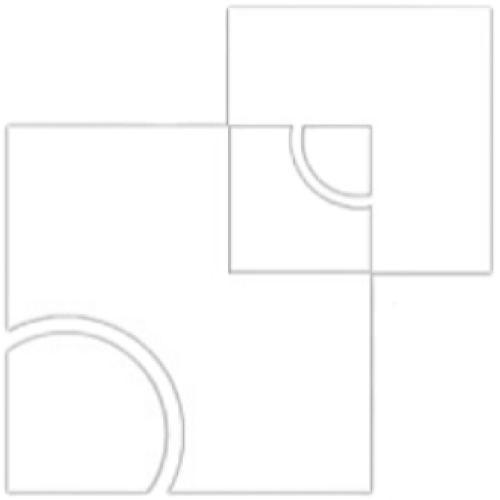МАГИЯ КИНО
Что такое «магия кино»? Что под ней подразумевают в кинокритике и кинотеории? И в чем в действительности заключается «магичность» кинематографа? Продолжаем биться над терминами теории «ДОКУМ-ХРОНИКа».
НЕОБХОДИМОСТЬ ЛИКБЕЗА
Набившая оскомину формулировка «магия кино» плотно закрепилась в кинокритическом и кинотеоретическом идейном обращении.
«Магическая» дефиниция понятия кинематографа, будучи сублимацией, с одной стороны, невыразимости сущности и принципа воздействия этого самобытного явления мировой культуры, а с другой — закономерного удивления и восхищения им, предлагающим соответственно самобытный (и потому первоначально невыразимый и всегда удивляющий), ни на что не похожий сверхэстетический[1] опыт, возникла и утвердилась не без причин.
В числе таковых особое значение имеют причины исторические, под которыми автор настоящего текста подразумевает начальный этап существования и развития кино, а также соответствующий этому этапу качественный уровень общественного отношения к нему, его осознания и принятия массами, зрительная, кинематографическая культура которых в период «младенчества» экрана находилась относительно последнего в таком же «младенческом» состоянии.
«Эта профессия (кинооператора — Д.Х.) была окутана мистическим ореолом, — мало кто в те годы понимал, каким чудодейственным образом получается на пленке изображение, а некоторые операторы, дабы поддержать этот ореол и утвердить свою «творческую» уникальность, прибегали к курьезным по меркам сегодняшнего дня приемам. Дранков, например, во время съемки непременно надевал белые парусиновые тапочки, а если таковых по каким-то причинам на месте не оказывалось, съемка отменялась. Оператор-иллюзионист, фокусник, оператор-техник, осуществлявший в одном лице все процессы производства — от съемки, проявки, печати до склейки и проекции, — вот с чего начиналась профессия»[2], — писала документалист Марина Голдовская.
С такого же «оккультного», «мистического» отношения к камере, детерминированного, во-первых, невыразимостью принципа ее работы, а во-вторых, закономерно последовавшей за этой невыразимостью подменой понятий, начиналась и фраза «магия кино». Фраза, силящаяся объять своим размытым околохудожническим мистицизмом уникальность киноэкрана, неординарность кинематографического опыта, удивляющего зрителя, и, конечно, причины этой неординарности.
Впрочем, сами кинематографисты активно поддерживали своим «творчеством» такое состояние дел, активно спекулируя на «магических», «иллюзионистских» свойствах киноаппарата.
Яркий пример таких спекуляций — творчество театрала Жоржа Мельеса.
«Мельес всерьез заинтересовался волшебным аппаратом, запечатлевающим сцены из повседневной жизни. Неужели на кинопленку, думал он, можно снять только то, что происходит в действительности, только то, что человек видит вокруг себя? А если попытаться переступить границу натуралистической фотографии, попробовать сделать фильм о том, что уже в течение многих лет показывается на сцене его театра? Пусть экран перестанет быть зеркалом жизни, пусть он превратится в магический стеклянный шар, в котором совершаются чудеса»[3], — писал историк кино Ежи Теплиц.
Отношение к кинематографу как к театральному «волшебному фонарю», как к некоему «магическому стеклянному шару», рассказывающему удивительные истории, поддерживало своим практическим воплощением (конкретными фильмами, отражающими такое отношение) зрительский интерес к его «необъяснимым» чудесам и иллюзиям (из-за чего собственно и приобрели популярность снятые на камеру постановки Мельеса), — к тому, что, как считалось, само по себе и вызывало этот самый интерес.
Зритель, идущий в кинотеатр за «чудом», за «игрой», в результате определял характер работы кинематографистов, ее задачи и цели — удивить разыгранным необычайным «волшебством». «У Мельса применение трюков преследовало лишь одну цель — поразить зрителя: трюки были самоцелью, а не приемом»[4], — отмечает по этому поводу Жорж Садуль.
В таких условиях и формировалось представление о «магии кино». Представление, как показывает актуальная практика, не испытавшее никаких существенных изменений и сегодня.
С одной стороны, это низкая кинематографическая культура зрителя, его невнимательность к сущности кинематографического запечатления, благодаря которой он, тем не менее, смотрит кино и проникается им, благодаря которой «чудеса» на экране вообще имеют хоть какую-то воздействующую силу на него.
С другой стороны, это формотворческие потенции режиссеров-игровиков, которые — поддержанные соответственным зрительским отношением к экрану и, следовательно, таким же спросом на него — возглавили кинопроцесс, сместив на догоняющие позиции кинодокумент — кино и его самость.
В общем, сформировался замкнутый круг: «младенчество» общей (и зрителя, и режиссеров) кинематографической культуры санкционировало ложное, антикинематографическое (игровое) понимание кино как фокуса, как магического инструмента, наконец, как искусства, ценного и интересного лишь своей антиконвенциональной (читай, искусственной, относящейся к искусству) зрелищностью.
Это понимание определило неверное же «творение» кино на практике, закрепившее в результате такое восприятие экрана массовым зрителем, на которого, в свою очередь, и ориентировались заинтересованные в прибылях кино-дельцы.
Конкретизируем вышесказанное для ясности.
Зрителя, как тогда казалось (и самому зрителю в том числе), прельщало волшебство нового, нарушающего конвенции зрелища, а потому режиссеры развивали свою творческую методологию именно в этом направлении — ближе к антиконвенциональности зрительского восприятия — к фантазии, к выдумке, к игре. Избыточный интерес, а значит, и необходимый для жизни любого нового изобретения спрос подстегивали кино-фабрикантов к умножению своей продукции в художническом ключе.
В качестве подкрепления этой мысли можно привести такое рассуждение Теплица: «Широкая волна всеобщей популярности сравняла кино с другими искусствами (шрифт мой — Д.Х.), и теперь уже популярность не вызывала возражений сторонников элитарности»[5].
Неясность характера воздействия кино, способного, тем не менее, вызвать — и вызывавшего — интерес к последнему, спровоцировала поиски определения этого характера — определения, преждевременно осевшего в пространстве искусства — в мире рукотворного, идеального, в мире мечты и фантазии.
Так и происходила подмена понятий, заведомо ложное замещение причины следствием — специфику кино объясняли выразительностью искусства, подменяли (фальсифицировали) первое последним.
В общем, режиссерам эпохи «младенчества» экрана мнилось, что именно фактор рукотворного, условного действия возбуждает зрительское внимание; что «кино-как-искусство» и составляет искомую «магию кино», завлекающую массы на кинопоказы.
Тот же Мельес писал: «Применяя все эти трюки в нужных комбинациях и с особым умением, я без колебания заявляю, что сегодня в кино возможно создание самых невероятных, самых немыслимых вещей… Умело примененный трюк, при помощи которого можно сделать видимыми сверхъестественные, воображаемые, нереальные явления, позволяет создавать в истинном смысле этого слова художественные зрелища, дающие огромное наслаждение тем, кто может понять, что все искусства объединяются для создания этих зрелищ»[6].
Эту же точку зрения подтверждает Ежи Теплиц: «В чем же причина такого возвышения ярмарочного зрелища? Ответ прост — в богатстве и разнообразии его возможностей. Сначала люди ходили смотреть фильмы, потому что они привлекали новизной, потом их влекло в кинотеатры желание узнать о событиях в мире и увидеть на экране интересную историю. Этот последний момент имел решающее значение… Кино унаследовало традиции сказочников и бардов, трубадуров и певцов, а также популярного с конца XVIII века романа…» Все это, так или иначе, подкреплялось, по словам историка, «потребностью людей в вымысле. Ни одно другое ярмарочное развлечение не могло удовлетворить этой жажды столь разнообразных переживаний: потому-то из конкурентной борьбы кино и вышло победителем»[7].
В таких условиях, повторимся, не могло сложиться приемлемого (т.е. никакого иного, кроме игрового, творческого, «как к искусству») отношения к кинематографу, отвечающего его онтологической (т.е. документальной, неигровой) сущности.
В свою очередь, за неимением таких отношения и понимания (а местами и за сознательным неприятием, отказом от них, оправданным личными, — как правило, корыстными, — интересами лжекинематографистов, воспитывающих зрителя своим ремеслом в нужном им ключе) последовали различного рода невнятные идейные спекуляции наподобие этой самой «магии кино».
Спекуляции, происходящие из игровизированного (т.е. подчиненного принципам создания и целям рукотворного искусства) кинематографического процесса и впрямую способствовавшие его игровизации; оправдывающие его театральность и литературность — «магическую» условность, оживленную несамостоятельной камерой.
Так, например, крупная фигура модернистского кино Ингмар Бергман — «в большей степени человек театра, чем кино»[8] — говорил, что «фильм, если это не документ, — сон, греза»[9].
Кинопроцесс в результате и закономерно избрал движение по «мнимо художественному пути«[10] - по пути театрального Мельеса. По пути gesamtkunstwerk`а — синтетического единства условных искусств, воплощенного буквальным киноаппаратом, подчиненным этой несвойственной ему художнической задаче.
В общем, как отмечают некоторые и сегодня, — и гордятся этим, — кино пошло по пути сфотографированного «салата из художеств». Ровно так, как того хотел когда-то Мельес, желавший объединения искусств для создания выразительных зрелищ.
Впрочем, как продолжает Голдовская, «момент иллюзионизма прошел. Профессия теряла свою экстраординарность, кинематограф превращался в индустрию. Оставалась техническая ипостась…»[11]
Оставалась только кинокамера и ее природа, обуславливающая соответственно и природу кинематографа.
Казалось бы, идейные анахронизмы вроде «магии кино», связанные с ограниченностью восприимчивости зрения, косностью восприятия кино — уже вроде как преодоленной, — должны были быть также преодолены, пройдены.
(Не зря же Бела Балаш рассуждал о необходимом развитии кинематографической культуры зрителя![12])
Вместо них должен был утвердиться строгий исследовательский тон кинокритика и кинотеоретика — т. е. такой, какой бы исчерпывался пониманием природы прежде всего и всегда документального (это-то мы и собираемся доказать!) киноэкрана, к которому этот тон и прилагается.
Должно было начаться — и утвердиться в качестве определяющего направления — выяснение сущности кино в согласии с ним и только с ним, в отрыве от насажденных ему принципов искусства и иных областей культуры. Во всяком случае, различные тенденции в области теории и практики кино свидетельствовали (и свидетельствуют до сих пор, о чем мы еще скажем) именно о таком целенаправленном движении…
Вместо дешевой «магии» — ловкость рук, ловкость конкретная, определенная и обоснованная. Не всплеск пошлого субъективизма, увенчанный такими же пошлыми формулировками, характерными для искусствоведов-идеалистов и «критиков театрального толка»[13], а конкретный вывод, которому предшествуют конкретные же и оправданные размышление и обоснование, подчиненные сущности кино, черпаемой из средства его создания — всегда документальной камеры.
Тем не менее, этого, повторимся, не произошло и сегодня.
Во-первых, так получилось из-за исторически определившегося вектора игрового развития кино «как искусства», чему потворствовала массовость кинематографа, идущая в ногу с художественным формотворчеством режиссеров, рассказывающих на экране свои «важные» истории. Об этом мы уже сказали выше.
Кино в большинстве своем продолжает развиваться как gesamtkunstwerk, сфотографированный на камеру. Игровые ленты, или экспериментальные, или игровизированные спекулятивные документы преобладают в рамках кинопроцесса.
«Кинематографисты», стремящиеся облагородить свое ремесло знаменем искусства (ибо стесняются кино как такового!) и, с другой стороны, воспитанные в этом же ключе зрители до сих продолжают мнить киноэкран «волшебным» миром художественной мечты, принимая следствие за причину.
Во-вторых, этому положению способствовали эклектичность и компромиссность теоретиков прошлого[14], которые, будучи отравленными лживой идеей о единстве всего тела (всех форм) кинематографа, легкомысленно стремились в силу этого их убеждения сложить универсальную (читай, податливую и спекулятивную, отвечающую логике субъективных предпочтений бесчисленной толпы критиков) «кинософскую» концепцию — т. е. такую, которая бы устраивала всех.
Рассуждения теоретиков последовательно сформировали соответствующую теоретическую традицию — противоречивую и парадоксальную изнутри, силящуюся объединить условное «кино-как-искусство» и жизненное, буквальное «кино-как-кино». Традицию, которой обучают в киношколах, которой пользуются ради оправдания своих творческих употреблений и собственных теоретических выкладок многие режиссеры и критики.
Но главным, располагающим к таким результатам фактором выступило размывание границ современного кинодискурса, демократизация кинокритики, приведшая, как мы же говорили[15], к расщеплению и затуманиванию понятия кинематографа (который, как некоторые лжекритики продолжают считать, может быть разнообразным до его самоисключения) — т. е. к восстановлению состояния всеобщего непонимания или даже сознательного неприятия того, что такое кино.
Отсюда берут свое начало, к примеру, принципы написания современной рецензии или даже статейного исследования в рамках одного или нескольких фильмов. В таких текстах образующий акцент исчерпывается раскрытием сюжета (литература) и актерской игры (театр), тогда как кинематографическому компоненту — особенностям применения камеры или сложения монтажа — отводится вторичное положение, подчиненное общему вектору преимущественно литературного анализа. Чаще всего собственно кинематографическое остается безынтересным для рецензента, который с большим удовольствием готов употребить уйму слов на личные ассоциации фильма с какой-нибудь отвлеченной темой или даже предметом (вроде растения), нежели фундаментально расписать полноценное киноисследование.
В качестве некоторого доказательства можно привести свидетельство из личного опыта: многие критики, с которыми автору настоящего текста удалось пообщаться, признавались, что «плавают» в технических подробностях работы кинокамеры и в методах кинематографического монтажа; некоторые из них говорили, что эти подробности им просто не интересны.
Так принципы киноанализа (т.е. отвечающего природе кино) подменяются принципами, характерными для других искусств; возникает анализ скорее искусствоведческий, нежели кинематографический.
В таком ключе — в ключе подмены понятий, обуславливающей методологию сложения кино как искусства, — делается и большинство современных фильмов, для анализа которых, стало быть, кинематографические принципы и не нужны, ибо не они определяют их методологию и, следовательно, природу. А потому такое печальное положение дел вполне естественно для современного кинодискурса и больше — кинопроцесса (который поэтому лучше назвать просто общекультурным процессом, творящим единство или синтез искусств на камеру — без необходимой приставки «кино»).
В итоге древняя, претендующая на универсальность, — которую так силились отыскать различные «кинософы» — фраза «магия кино» закономерно получила новое дыхание на страницах многочисленных журналов и авторских сетевых блогов — ресурсов не кинематографического просвещения, как можно было бы подумать, но размножения субъективистской неясности вокруг киноэкрана.
Где-то эта фраза используется для красивого оборота, а где-то, принимаемая буквально и всерьез, подменяющая понятия, силится обозначить философскую глубину (впрочем, мнимую) суждения. Вроде таких, которые утверждают, что кино специфическими средствами его создания способно, переработав действительность, сотворить действительностью новую — условную, «ирреальную», «магическую» и т. п.
Если продолжать эту мысль, то можно не без оснований предположить, что там, где с особым упорством напирают на «магию кино» — ни магии, ни уж тем более кино и его адекватного осмысления обнаружить читателю не удастся.
Зато он наверняка найдет великое множество психоаналитических конструкций, пресытится фрейдизмом в его многочисленных вариациях, а заодно и разберется в сложных хитросплетениях литературного сюжета и театральной постановки. Когда же дело дойдет до кинематографического компонента, то читатель сможет или порадоваться за критика, поверхностно описавшего не столько даже киноформу, сколько свои отвлеченные впечатления от «визуала», «картинки», или задуматься над «глубоким» символическим значением композиции кадра, тесно связанным все с теми же хитросплетениями нарратива, сюжета.
Все это крепко-накрепко цементирует подмену понятий в качестве идейного фундамента осмысления феномена кино. Подмену, наиболее ярко выраженную в оксюмороне «магия кино», воплощающем смешение природ двух отличных друг от друга пластов общечеловеческой культуры.
Слащаво натужное словосочетание «магия кино» — это, на наш взгляд, своеобразный моветон современного преимущественно игрового кинодискурса, маскирующий теоретическую фальсификацию природы и характера воздействия на зрителя кинематографа, незнание или все то же неприятие последнего (невольное или в качестве сознательного убеждения).
Моветон, сигнализирующий о продолжении и закреплении «младенческого» состояния киномысли, характерного для ярмарочного прошлого (и, к сожалению, закономерного настоящего) театрального «волшебного фонаря» — иллюзорного (и в том мнимого) окна в мир искусства и творческой фантазии.
Понятие «магия кино» продолжает существовать, употребляться к месту и не к месту, оправдывая своим пластичным, податливым и изменяемым в случае необходимости содержанием спекулятивные выкладки разного рода киноэклектиков и «фильмических колдунов». Тех, кто, выстраивая воздушные замки «параллельных реальностей фильмических пространств», на деле закрывает трудно определимые или не умещающиеся в окуляры их розовых очков места этой и другими размытыми формулировками.
И именно потому, что оно, это понятие, только крепнет, дурманом заволакивая исследовательский процесс кинематографического феномена, — влияет также и на самый кинопроцесс, облагораживая идолом искусства различные формотворческие искания его участников, искажающих этими исканиями природу кино, — его следует понять и объяснить.
Иначе говоря, выяснить, в чем же заключается эта пресловутая «магия кино», ибо ясно, что не одним только неразумением диктуется наличие подобных определений.
Неразумение, непонимание, выраженное в подмене понятий, — только определенная реакция критика или простого зрителя на некоторое качество кинематографа, которое он силится таким образом объяснить.
В общем, это только следствие, сигнализирующее о наличии действительно существующей (раз уж так часто эта реакция возникает) причины.
«Магия кино» (опустим на время ее сомнительное спекулятивное качество и пошлость современного употребления) все же свидетельствует о каком-то свойстве кино, свойстве фундаментальном, определяющем. О таком свойстве, которое, оставаясь невыразимым в литературе, посвященной вопросам кинематографа (где ничего чисто кинематографического днем с огнем не сыщешь!), продолжает непосредственно определять зрительское восприятия экрана.
Так что же такое «магия кино»? Что в кино «магического»?
Набившая оскомину формулировка «магия кино» плотно закрепилась в кинокритическом и кинотеоретическом идейном обращении.
«Магическая» дефиниция понятия кинематографа, будучи сублимацией, с одной стороны, невыразимости сущности и принципа воздействия этого самобытного явления мировой культуры, а с другой — закономерного удивления и восхищения им, предлагающим соответственно самобытный (и потому первоначально невыразимый и всегда удивляющий), ни на что не похожий сверхэстетический[1] опыт, возникла и утвердилась не без причин.
В числе таковых особое значение имеют причины исторические, под которыми автор настоящего текста подразумевает начальный этап существования и развития кино, а также соответствующий этому этапу качественный уровень общественного отношения к нему, его осознания и принятия массами, зрительная, кинематографическая культура которых в период «младенчества» экрана находилась относительно последнего в таком же «младенческом» состоянии.
«Эта профессия (кинооператора — Д.Х.) была окутана мистическим ореолом, — мало кто в те годы понимал, каким чудодейственным образом получается на пленке изображение, а некоторые операторы, дабы поддержать этот ореол и утвердить свою «творческую» уникальность, прибегали к курьезным по меркам сегодняшнего дня приемам. Дранков, например, во время съемки непременно надевал белые парусиновые тапочки, а если таковых по каким-то причинам на месте не оказывалось, съемка отменялась. Оператор-иллюзионист, фокусник, оператор-техник, осуществлявший в одном лице все процессы производства — от съемки, проявки, печати до склейки и проекции, — вот с чего начиналась профессия»[2], — писала документалист Марина Голдовская.
С такого же «оккультного», «мистического» отношения к камере, детерминированного, во-первых, невыразимостью принципа ее работы, а во-вторых, закономерно последовавшей за этой невыразимостью подменой понятий, начиналась и фраза «магия кино». Фраза, силящаяся объять своим размытым околохудожническим мистицизмом уникальность киноэкрана, неординарность кинематографического опыта, удивляющего зрителя, и, конечно, причины этой неординарности.
Впрочем, сами кинематографисты активно поддерживали своим «творчеством» такое состояние дел, активно спекулируя на «магических», «иллюзионистских» свойствах киноаппарата.
Яркий пример таких спекуляций — творчество театрала Жоржа Мельеса.
«Мельес всерьез заинтересовался волшебным аппаратом, запечатлевающим сцены из повседневной жизни. Неужели на кинопленку, думал он, можно снять только то, что происходит в действительности, только то, что человек видит вокруг себя? А если попытаться переступить границу натуралистической фотографии, попробовать сделать фильм о том, что уже в течение многих лет показывается на сцене его театра? Пусть экран перестанет быть зеркалом жизни, пусть он превратится в магический стеклянный шар, в котором совершаются чудеса»[3], — писал историк кино Ежи Теплиц.
Отношение к кинематографу как к театральному «волшебному фонарю», как к некоему «магическому стеклянному шару», рассказывающему удивительные истории, поддерживало своим практическим воплощением (конкретными фильмами, отражающими такое отношение) зрительский интерес к его «необъяснимым» чудесам и иллюзиям (из-за чего собственно и приобрели популярность снятые на камеру постановки Мельеса), — к тому, что, как считалось, само по себе и вызывало этот самый интерес.
Зритель, идущий в кинотеатр за «чудом», за «игрой», в результате определял характер работы кинематографистов, ее задачи и цели — удивить разыгранным необычайным «волшебством». «У Мельса применение трюков преследовало лишь одну цель — поразить зрителя: трюки были самоцелью, а не приемом»[4], — отмечает по этому поводу Жорж Садуль.
В таких условиях и формировалось представление о «магии кино». Представление, как показывает актуальная практика, не испытавшее никаких существенных изменений и сегодня.
С одной стороны, это низкая кинематографическая культура зрителя, его невнимательность к сущности кинематографического запечатления, благодаря которой он, тем не менее, смотрит кино и проникается им, благодаря которой «чудеса» на экране вообще имеют хоть какую-то воздействующую силу на него.
С другой стороны, это формотворческие потенции режиссеров-игровиков, которые — поддержанные соответственным зрительским отношением к экрану и, следовательно, таким же спросом на него — возглавили кинопроцесс, сместив на догоняющие позиции кинодокумент — кино и его самость.
В общем, сформировался замкнутый круг: «младенчество» общей (и зрителя, и режиссеров) кинематографической культуры санкционировало ложное, антикинематографическое (игровое) понимание кино как фокуса, как магического инструмента, наконец, как искусства, ценного и интересного лишь своей антиконвенциональной (читай, искусственной, относящейся к искусству) зрелищностью.
Это понимание определило неверное же «творение» кино на практике, закрепившее в результате такое восприятие экрана массовым зрителем, на которого, в свою очередь, и ориентировались заинтересованные в прибылях кино-дельцы.
Конкретизируем вышесказанное для ясности.
Зрителя, как тогда казалось (и самому зрителю в том числе), прельщало волшебство нового, нарушающего конвенции зрелища, а потому режиссеры развивали свою творческую методологию именно в этом направлении — ближе к антиконвенциональности зрительского восприятия — к фантазии, к выдумке, к игре. Избыточный интерес, а значит, и необходимый для жизни любого нового изобретения спрос подстегивали кино-фабрикантов к умножению своей продукции в художническом ключе.
В качестве подкрепления этой мысли можно привести такое рассуждение Теплица: «Широкая волна всеобщей популярности сравняла кино с другими искусствами (шрифт мой — Д.Х.), и теперь уже популярность не вызывала возражений сторонников элитарности»[5].
Неясность характера воздействия кино, способного, тем не менее, вызвать — и вызывавшего — интерес к последнему, спровоцировала поиски определения этого характера — определения, преждевременно осевшего в пространстве искусства — в мире рукотворного, идеального, в мире мечты и фантазии.
Так и происходила подмена понятий, заведомо ложное замещение причины следствием — специфику кино объясняли выразительностью искусства, подменяли (фальсифицировали) первое последним.
В общем, режиссерам эпохи «младенчества» экрана мнилось, что именно фактор рукотворного, условного действия возбуждает зрительское внимание; что «кино-как-искусство» и составляет искомую «магию кино», завлекающую массы на кинопоказы.
Тот же Мельес писал: «Применяя все эти трюки в нужных комбинациях и с особым умением, я без колебания заявляю, что сегодня в кино возможно создание самых невероятных, самых немыслимых вещей… Умело примененный трюк, при помощи которого можно сделать видимыми сверхъестественные, воображаемые, нереальные явления, позволяет создавать в истинном смысле этого слова художественные зрелища, дающие огромное наслаждение тем, кто может понять, что все искусства объединяются для создания этих зрелищ»[6].
Эту же точку зрения подтверждает Ежи Теплиц: «В чем же причина такого возвышения ярмарочного зрелища? Ответ прост — в богатстве и разнообразии его возможностей. Сначала люди ходили смотреть фильмы, потому что они привлекали новизной, потом их влекло в кинотеатры желание узнать о событиях в мире и увидеть на экране интересную историю. Этот последний момент имел решающее значение… Кино унаследовало традиции сказочников и бардов, трубадуров и певцов, а также популярного с конца XVIII века романа…» Все это, так или иначе, подкреплялось, по словам историка, «потребностью людей в вымысле. Ни одно другое ярмарочное развлечение не могло удовлетворить этой жажды столь разнообразных переживаний: потому-то из конкурентной борьбы кино и вышло победителем»[7].
В таких условиях, повторимся, не могло сложиться приемлемого (т.е. никакого иного, кроме игрового, творческого, «как к искусству») отношения к кинематографу, отвечающего его онтологической (т.е. документальной, неигровой) сущности.
В свою очередь, за неимением таких отношения и понимания (а местами и за сознательным неприятием, отказом от них, оправданным личными, — как правило, корыстными, — интересами лжекинематографистов, воспитывающих зрителя своим ремеслом в нужном им ключе) последовали различного рода невнятные идейные спекуляции наподобие этой самой «магии кино».
Спекуляции, происходящие из игровизированного (т.е. подчиненного принципам создания и целям рукотворного искусства) кинематографического процесса и впрямую способствовавшие его игровизации; оправдывающие его театральность и литературность — «магическую» условность, оживленную несамостоятельной камерой.
Так, например, крупная фигура модернистского кино Ингмар Бергман — «в большей степени человек театра, чем кино»[8] — говорил, что «фильм, если это не документ, — сон, греза»[9].
Кинопроцесс в результате и закономерно избрал движение по «мнимо художественному пути«[10] - по пути театрального Мельеса. По пути gesamtkunstwerk`а — синтетического единства условных искусств, воплощенного буквальным киноаппаратом, подчиненным этой несвойственной ему художнической задаче.
В общем, как отмечают некоторые и сегодня, — и гордятся этим, — кино пошло по пути сфотографированного «салата из художеств». Ровно так, как того хотел когда-то Мельес, желавший объединения искусств для создания выразительных зрелищ.
Впрочем, как продолжает Голдовская, «момент иллюзионизма прошел. Профессия теряла свою экстраординарность, кинематограф превращался в индустрию. Оставалась техническая ипостась…»[11]
Оставалась только кинокамера и ее природа, обуславливающая соответственно и природу кинематографа.
Казалось бы, идейные анахронизмы вроде «магии кино», связанные с ограниченностью восприимчивости зрения, косностью восприятия кино — уже вроде как преодоленной, — должны были быть также преодолены, пройдены.
(Не зря же Бела Балаш рассуждал о необходимом развитии кинематографической культуры зрителя![12])
Вместо них должен был утвердиться строгий исследовательский тон кинокритика и кинотеоретика — т. е. такой, какой бы исчерпывался пониманием природы прежде всего и всегда документального (это-то мы и собираемся доказать!) киноэкрана, к которому этот тон и прилагается.
Должно было начаться — и утвердиться в качестве определяющего направления — выяснение сущности кино в согласии с ним и только с ним, в отрыве от насажденных ему принципов искусства и иных областей культуры. Во всяком случае, различные тенденции в области теории и практики кино свидетельствовали (и свидетельствуют до сих пор, о чем мы еще скажем) именно о таком целенаправленном движении…
Вместо дешевой «магии» — ловкость рук, ловкость конкретная, определенная и обоснованная. Не всплеск пошлого субъективизма, увенчанный такими же пошлыми формулировками, характерными для искусствоведов-идеалистов и «критиков театрального толка»[13], а конкретный вывод, которому предшествуют конкретные же и оправданные размышление и обоснование, подчиненные сущности кино, черпаемой из средства его создания — всегда документальной камеры.
Тем не менее, этого, повторимся, не произошло и сегодня.
Во-первых, так получилось из-за исторически определившегося вектора игрового развития кино «как искусства», чему потворствовала массовость кинематографа, идущая в ногу с художественным формотворчеством режиссеров, рассказывающих на экране свои «важные» истории. Об этом мы уже сказали выше.
Кино в большинстве своем продолжает развиваться как gesamtkunstwerk, сфотографированный на камеру. Игровые ленты, или экспериментальные, или игровизированные спекулятивные документы преобладают в рамках кинопроцесса.
«Кинематографисты», стремящиеся облагородить свое ремесло знаменем искусства (ибо стесняются кино как такового!) и, с другой стороны, воспитанные в этом же ключе зрители до сих продолжают мнить киноэкран «волшебным» миром художественной мечты, принимая следствие за причину.
Во-вторых, этому положению способствовали эклектичность и компромиссность теоретиков прошлого[14], которые, будучи отравленными лживой идеей о единстве всего тела (всех форм) кинематографа, легкомысленно стремились в силу этого их убеждения сложить универсальную (читай, податливую и спекулятивную, отвечающую логике субъективных предпочтений бесчисленной толпы критиков) «кинософскую» концепцию — т. е. такую, которая бы устраивала всех.
Рассуждения теоретиков последовательно сформировали соответствующую теоретическую традицию — противоречивую и парадоксальную изнутри, силящуюся объединить условное «кино-как-искусство» и жизненное, буквальное «кино-как-кино». Традицию, которой обучают в киношколах, которой пользуются ради оправдания своих творческих употреблений и собственных теоретических выкладок многие режиссеры и критики.
Но главным, располагающим к таким результатам фактором выступило размывание границ современного кинодискурса, демократизация кинокритики, приведшая, как мы же говорили[15], к расщеплению и затуманиванию понятия кинематографа (который, как некоторые лжекритики продолжают считать, может быть разнообразным до его самоисключения) — т. е. к восстановлению состояния всеобщего непонимания или даже сознательного неприятия того, что такое кино.
Отсюда берут свое начало, к примеру, принципы написания современной рецензии или даже статейного исследования в рамках одного или нескольких фильмов. В таких текстах образующий акцент исчерпывается раскрытием сюжета (литература) и актерской игры (театр), тогда как кинематографическому компоненту — особенностям применения камеры или сложения монтажа — отводится вторичное положение, подчиненное общему вектору преимущественно литературного анализа. Чаще всего собственно кинематографическое остается безынтересным для рецензента, который с большим удовольствием готов употребить уйму слов на личные ассоциации фильма с какой-нибудь отвлеченной темой или даже предметом (вроде растения), нежели фундаментально расписать полноценное киноисследование.
В качестве некоторого доказательства можно привести свидетельство из личного опыта: многие критики, с которыми автору настоящего текста удалось пообщаться, признавались, что «плавают» в технических подробностях работы кинокамеры и в методах кинематографического монтажа; некоторые из них говорили, что эти подробности им просто не интересны.
Так принципы киноанализа (т.е. отвечающего природе кино) подменяются принципами, характерными для других искусств; возникает анализ скорее искусствоведческий, нежели кинематографический.
В таком ключе — в ключе подмены понятий, обуславливающей методологию сложения кино как искусства, — делается и большинство современных фильмов, для анализа которых, стало быть, кинематографические принципы и не нужны, ибо не они определяют их методологию и, следовательно, природу. А потому такое печальное положение дел вполне естественно для современного кинодискурса и больше — кинопроцесса (который поэтому лучше назвать просто общекультурным процессом, творящим единство или синтез искусств на камеру — без необходимой приставки «кино»).
В итоге древняя, претендующая на универсальность, — которую так силились отыскать различные «кинософы» — фраза «магия кино» закономерно получила новое дыхание на страницах многочисленных журналов и авторских сетевых блогов — ресурсов не кинематографического просвещения, как можно было бы подумать, но размножения субъективистской неясности вокруг киноэкрана.
Где-то эта фраза используется для красивого оборота, а где-то, принимаемая буквально и всерьез, подменяющая понятия, силится обозначить философскую глубину (впрочем, мнимую) суждения. Вроде таких, которые утверждают, что кино специфическими средствами его создания способно, переработав действительность, сотворить действительностью новую — условную, «ирреальную», «магическую» и т. п.
Если продолжать эту мысль, то можно не без оснований предположить, что там, где с особым упорством напирают на «магию кино» — ни магии, ни уж тем более кино и его адекватного осмысления обнаружить читателю не удастся.
Зато он наверняка найдет великое множество психоаналитических конструкций, пресытится фрейдизмом в его многочисленных вариациях, а заодно и разберется в сложных хитросплетениях литературного сюжета и театральной постановки. Когда же дело дойдет до кинематографического компонента, то читатель сможет или порадоваться за критика, поверхностно описавшего не столько даже киноформу, сколько свои отвлеченные впечатления от «визуала», «картинки», или задуматься над «глубоким» символическим значением композиции кадра, тесно связанным все с теми же хитросплетениями нарратива, сюжета.
Все это крепко-накрепко цементирует подмену понятий в качестве идейного фундамента осмысления феномена кино. Подмену, наиболее ярко выраженную в оксюмороне «магия кино», воплощающем смешение природ двух отличных друг от друга пластов общечеловеческой культуры.
Слащаво натужное словосочетание «магия кино» — это, на наш взгляд, своеобразный моветон современного преимущественно игрового кинодискурса, маскирующий теоретическую фальсификацию природы и характера воздействия на зрителя кинематографа, незнание или все то же неприятие последнего (невольное или в качестве сознательного убеждения).
Моветон, сигнализирующий о продолжении и закреплении «младенческого» состояния киномысли, характерного для ярмарочного прошлого (и, к сожалению, закономерного настоящего) театрального «волшебного фонаря» — иллюзорного (и в том мнимого) окна в мир искусства и творческой фантазии.
Понятие «магия кино» продолжает существовать, употребляться к месту и не к месту, оправдывая своим пластичным, податливым и изменяемым в случае необходимости содержанием спекулятивные выкладки разного рода киноэклектиков и «фильмических колдунов». Тех, кто, выстраивая воздушные замки «параллельных реальностей фильмических пространств», на деле закрывает трудно определимые или не умещающиеся в окуляры их розовых очков места этой и другими размытыми формулировками.
И именно потому, что оно, это понятие, только крепнет, дурманом заволакивая исследовательский процесс кинематографического феномена, — влияет также и на самый кинопроцесс, облагораживая идолом искусства различные формотворческие искания его участников, искажающих этими исканиями природу кино, — его следует понять и объяснить.
Иначе говоря, выяснить, в чем же заключается эта пресловутая «магия кино», ибо ясно, что не одним только неразумением диктуется наличие подобных определений.
Неразумение, непонимание, выраженное в подмене понятий, — только определенная реакция критика или простого зрителя на некоторое качество кинематографа, которое он силится таким образом объяснить.
В общем, это только следствие, сигнализирующее о наличии действительно существующей (раз уж так часто эта реакция возникает) причины.
«Магия кино» (опустим на время ее сомнительное спекулятивное качество и пошлость современного употребления) все же свидетельствует о каком-то свойстве кино, свойстве фундаментальном, определяющем. О таком свойстве, которое, оставаясь невыразимым в литературе, посвященной вопросам кинематографа (где ничего чисто кинематографического днем с огнем не сыщешь!), продолжает непосредственно определять зрительское восприятия экрана.
Так что же такое «магия кино»? Что в кино «магического»?
ДОКУМЕНТАЛЬНОСТЬ
Из всего множества употреблений этой формулировки представляется возможным выделить нечто общее, объединяющее все эти употребления.
На наш взгляд, наиболее убедительно и объемлюще относительно иных вариантов использования словосочетание «магия кино» звучит в словах Кшиштофа Кесьлевского: «Именно в этом, среди прочего, заключается магия кино: в том, что мы, зрители, сидя в зале, внезапно ощущаем особенное напряжение между собой и экраном. Переносимся в мир, который нам показывают. Мир настолько живой, цельный и убедительный, что мы просто оказываемся в нем. Я хочу, чтобы картина меня взволновала, хочу поддаться ее волшебству — если оно там есть, — поверить в рассказанную историю»[16].
Во-первых, под «магией кино» понимается некоторое специфическое качество именно и исключительно кинематографа: «магическая» коннотация сигнализирует о своеобычности именно кино, за которой следует соответственно инаковость кинозрительского переживания, отличность его от переживания произведений традиционных искусств.
(В ином случае, конечно, говорили бы не о кино, но об искусстве вообще, о «магии искусства», ибо кинематограф легимизирован критиками и теоретиками в «семье» художеств; здесь же происходит прозрачное акцентирование на сущности кино, его отличности от мира искусства — т. е. процесс обратный, выделяющий кинематограф по определенным признакам).
Во-вторых, под этим качеством подразумевается конкретное содержание — конвенция зрителя и экрана, которая и обуславливает инаковость кинозрительского переживания.
С этим содержанием, с сутью «магии кино» мы сейчас и будем разбираться.
Зритель верит экрану, верит снятому кинокамерой. Именно верит — так, как верит тому, что видит собственными глазами.
В этом же ключе рассуждал и теоретик Бела Балаш: «Исторически более значимым преобразованием было в смысле философии искусства то, что кино не просто показывает иное, но что оно показывает иначе, что оно преодолело в сознании зрителя ощущение художественного произведения как чего-то стоящего от него в отдалении, преодолело внутреннюю дистанцию, до сих пор воспринимавшуюся как сущность эстетического переживания… Камера увлекает наш взор за собой туда, где происходит действие фильма. Мы видим все словно изнутри, как будто действующие лица вокруг нас. Им не нужно сообщать нам, что они чувствуют, мы сами видим, как они видят»[17].
Почему так происходит? За счет чего достигается такое доверие экрану? Все дело только в том, что камера показывает иначе, что она способна показать, в отличие от других искусств, движение, фиксировать некое явление с разных и при том внутренне изменчивых точек зрения, как считал Балаш? Только ли одним этим она возбуждает наше внимание? Полагаю, не совсем так.
Конечно, первые определения кинематографа исчерпывались во многом именно этой формальной особенностью киноаппарата. Так, например, рассуждал о явлении кино Антони Майклз: «Ряд отдельных изображений, зафиксированных на одной непрерывной ленте, экспонированных через равные промежутки времени, чтобы воспроизвести последовательные фазы движения. При демонстрации с быстротой, превышающей частоту слияния мельканий, свойственных человеческому глазу, отдельные изображения достаточно долго остаются в памяти зрителя, чтобы создать иллюзию непрерывного движения»[18].
Уже цитируемая нами Марина Голдовская выражает аналогичное суждение: «При всей примитивности метода съемок подобных «живых картин» можно ли найти в них нечто, способное стать «молекулой» кинематографического языка? Думается, можно. В них было движение, не просто ожившая плоскостная фотография, но движение в глубинном пространстве кадра, которое, если верить свидетельствам тех лет, заставляло первых кинозрителей в панике бросаться к выходу, спасаясь от надвигавшегося на них поезда»[19].
Неужели только движение, взятое само по себе, определяет инаковость кинематографического показа, обуславливает «эффект вживания» зрителя в пространство фильма? Только ли потому, что поезд двигался, зрители бросались в панике из кинозалов?
Как кажется, совсем не это определяет конвенцию зрителя и экрана. Точнее говоря, не только и не столько фактор движения здесь является определяющим. В ином случае всякое изменяющееся, находящееся в движении изображение вызывало бы зрительское доверие экранному действию, «вживание» в него.
Однако это, конечно, вовсе не так.
К примеру, сама Голдовская на этот счет пишет, что «сейчас, сравнивая с современными фильмы, созданные в годы, называемые «золотым веком» киноискусства, мы видим все «белые нитки»: «липовые» декорации, ненастоящие фактуры, нарочитый грим, отмечаем театральность игры, поставленность мизансцен, павильонное киноосвещение, всегда заметное своей ненатуральностью…»[20]
Значит, эта «ненатуральность», хотя бы и содержащая в себе некоторое движение, необходимое для всякого фильма, оказывается способной разрушить доверие экрану, создать дистанцию между ним и зрителем. А следовательно, отнюдь не всякое движение, не всякое движущееся изображение создает «особое напряжение между экраном и зрителем», конвенцию между ними, как считал Кесьлевский.
«Ритм-21» Рихтера с его танцующими квадратами, видимо, не то же самое, что «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» Люмьеров. Во всяком случае, от квадратов никто не убегал.
В продолжении своей мысли Голдовская пишет: «Сегодня нам понятно, что в те годы иначе и быть не могло, что эта искусственность не вызывала практически ни у кого из современников возражений. Всякому искусству, всякому историческому этапу его развития свойственна определенная мера условности. Эстетика кинематографа тех лет… была вполне органична для своего времени: нужно было определенное накопление багажа киноязыка, чтобы подняться на более высокую ступень кинематографического реализма».
Здесь следует остановиться подробнее. Разбор этих позиций, разошедшихся в качестве идейного лейтмотива на страницы многочисленных журналов и блогов, предоставит нам искомые ответы.
Кажется, будто Голдовская утверждает, что принятие некоторой условности, искусственности и позволяет зрителю довериться экрану. В этом отношении она вовсе не одинока — так рассуждают многие современные критики (на самом деле, абсолютное их большинство, придерживающееся сугубо литературной и театральной — т. е. искусствоведческой — традиции). В том же был свято убежден Мельес, как мы уже говорили.
Однако справедливо ли такое суждение применительно к кинематографу?
Условность или некий закон художественного произведения, благодаря которому фантазия художника существует в конкретных формах, есть своего рода подтверждение его — этого произведения — отобщенности от действительного существования, его герметичности, закрытости. Ибо художественное произведение действует в рамках своей художественной или духовной реальности, со своими закономерностями, которые относительно реальности физической и выступают собственно некоторой условностью.
Этот момент принципиально важен для кино.
«Основной принцип европейской эстетики и философии искусства, начиная со времен древних греков, гласит, что между человеком и произведением искусства существует внешняя и внутренняя дистанция. Согласно этому принципу, всякое произведение искусства представляет собой замкнутый микрокосм, композиционно подчиненный собственным законам. Пусть он изображает действительность, но он не имеет с ней непосредственной связи или других контактов. Произведение искусства отделено от эмпирической действительности не только рамой картины, пьедесталом скульптуры или рампой сцены. Оно отделено от действительности по самой своей сущности, по своей замкнутой композиции и своим особым закономерностям. Именно потому, что оно изображает действительность, оно не может быть продолжением действительности. Пусть я держу картину в руках, но я никогда не сумею проникнуть в то, что написано на полотне. Я не способен на это не только физически, но и мое сознание не способно на это, так как эта картина никогда не вызовет во мне представления, что я часть ее и нахожусь там, в переданном художником пространстве. Мир пьесы, разыгрываемой на сцене, остался бы замкнут для меня даже и тогда, если бы я сидел на сцене среди исполнителей или если бы зрители сидели вокруг сцены, как в цирке. И в этом случае я не смог бы принять участие в действии. Актеры говорят не мне, на меня они просто не обращают внимания. Своим присутствием я могу нарушить композицию произведения, но никогда не смогу стать частью»[21], — писал на этот счет Бела Балаш.
Иначе говоря, условность своим утверждением производит разграничение двух реальностей — физической, нерукотворной и идеальной, порожденной волей или духом художника, выраженным в конкретных рукотворных употреблениях художественных форм. Отсюда собственно и явление дистанции, характерное для традиционных искусств.
Дистанции, во-первых, внешней, физической: ибо произведение искусства, с одной стороны, завершено и неизменно в своей формальной и физической композиции (мы не в состоянии его изменить, иначе выйдет уже другое произведение или физически другой предмет); а с другой — оно не позволяет воспринять его так же, как мы эмпирически воспринимаем нашу действительность; оно существует идеально и требует соответствующего к себе (идеального, мысленного, интеллектуального) отношения — только тогда оно и возникнет перед тем, кто его созерцает или, лучше сказать, читает.
Или иначе: оно возникнет только тогда, когда его именно что читают[22].
Если мы будем смотреть на картину только как на физический объект, эмпирически, не прилагая к ней никаких интеллектуальных усилий, то она и не раскроется перед нами в своем подлинном качестве: вместо нее мы увидим фактуру мазков, цвет, структуру самого полотна, деревянную раму и т. д. Произведение требует сознания, мысли, идеи — чтения, выявляющего идеальную композицию произведения, авторские акценты, детерминирующие стереотип прочтения этого произведения и т. д.
Необходимость «прочтения», по мнению Балаша, «присутствует в любом произведении, созданном человеком сознательно». Это верно хотя бы оттого, что «мы не можем представить себе, чтобы человек, что-то создающий, не преследовал бы при этом определенной цели». Так что в любом сознательном, а значит и рукотворном произведении (тем более произведение рукотворно, чем более сознательно художник его творит) мы «будем искать смысл, предполагать, догадываться, и в случае необходимости сами его домысливать»[23].
Сознание, в свою очередь, требует отношения к объекту как к внешнему самостоятельному и законченному в себе явлению, отобщенному от действительного бытия и, следовательно, от воспринимающего его, и потому вынуждает читателя отстраниться от объекта созерцания (чтения) — признать собственную целостность и самостоятельность в столкновении с произведением — с целостным же, внутренне завершенным, неизменяемым, в общем, герметичным.
В этом отстранении, возникающем из идеальной условности, физической отобщенности от действительного бытия завершенного в себе произведения, последнее оказывается доступным к восприятию только и исключительно через считывание.
Следовательно и во-вторых, дистанции духовной, внутренней, ибо произведение искусства суть воплощение в конкретных формах авторской интенции, относительно которой наша собственная интенция, наша собственная мысль — мы сами — существуют вовне, со стороны, равно как эти формы, воплощающие замысел, существуют помимо нас, необязательно с нами, но даже без нашего участия, которое относительно произведения не необходимо, не нужно.
Автор диктует нам определенные смыслы своим произведением, его композицией, явившейся на свет как внешняя или формальная конвертация этих смыслов, объективная и неизменная относительно нашего «Я».
Проникнуть в произведение, не разрушив его, оказывается невозможным: мы или «сломаем картину» физически (буквально порвем ее), композиционно (проигнорируем или изменим формальную данность произведения), и/или «сломаем» авторскую интенцию, заменив ее собственной, не содержащейся в авторском же (всегда авторском!) произведении (т.е. не поймем автора).
В любом случае, это произведение во всей его полноте окажется нам недоступным, не будет существовать для нас как произведение.
Интеллектуальная дистанция стороннего наблюдателя, следовательно, есть необходимое условие эстетического переживания.
Взаимодействие произведения искусства и зрителя предполагает такой принцип, при котором зритель становится читателем, сторонним наблюдателем, интеллектуально препарирующим внеположенное и неизменное (в том смысле, что зритель-читатель не может на свой лад перекроить его) в своей завершенной композиции произведение в поисках заключенных в нем смыслов, принадлежащих этому произведению, изначально скроенному из авторских символических означающих форм (внешних по отношению к нам).
Произведение в некотором смысле уже содержит в себе авторскую концепцию, которую мы должны только выявить, не заменяя своей собственной концепцией. Это произведение можно признать своего рода интеллектуальной головоломкой, доступной только со стороны признающего ее внутреннюю замкнутость, законы исследователя.
Такой принцип исключает непосредственное «вживание» зрителя-читателя в произведение, предполагает консервацию его именно как стороннего (самостоятельного) интеллектуального искателя символических значений.
Ровно так, как об этом применительно к авангардному искусству говорил Ортега-и-Гассет: «Дело не в том, чтобы нарисовать что-нибудь совсем непохожее на человека — дом или гору, — но в том, чтобы нарисовать человека, который как можно менее походил бы на человека, который сохранил бы лишь безусловно необходимое для того, чтобы мы могли разгадать его метаморфозу (шрифт мой - Д.Х.)»[24].
Эта закономерность характерна для искусства вообще, выступающего всегда рукотворным искажающим реальность воплощением авторского мироощущения, результатом творческой интерпретации действительности, посредством которой или в формах которой, — отличных от действительного бытия, всегда непохожих на него — автор и доносит свое «Я», читаемое в этих самых символических (и в том всегда метаморфических, отличных от действительности) формах.
Упрощая сказанное, можно заключить, что рукотворное авторское «Я», воплощенное в произведении искусства, всегда находится относительно действительного бытия и воспринимающего этого произведение на дистанции, как на дистанции находятся два разных человека — со своей мыслью, своим духом, своим сознанием, своим телом и т. д.
Однако в случае с киноэкраном, в случае с «магией кино» рассуждают именно о преодолении дистанции между кинематографом и зрителем! Тот же Балаш подчеркивал выше такое качество кинематографического переживания, составляющее инаковость последнего относительно иных искусств.
Это подтверждает и Кракауэр: «Однажды в беседе с одной впечатлительной француженкой автор настоящей книги как-то услышал такую фразу: «В театре я всегда остаюсь самой собой, а в кино я растворяюсь во всех предметах и живых существах». Об этом же процессе растворения подробнее пишет Валлон: «Если фильму удается воздействовать на меня, то это происходит лишь потому, что я в той или иной мере отождествляю себя с экранными образами. Я больше не живу своей жизнью, я живу в фильме, проходящем перед глазами»[25].
Принятие некоторой условности, искусственности, ее осознание, стало быть, не может обеспечить зрительского доверия экрану, но наоборот — разрушит это самое доверие, разорвет зрительную связь человека и кинематографа — создаст ту самую дистанцию, которую «магия кино», по словам Кесьлевского, должна преодолевать.
Об этом весьма справедливо применительно к употреблению музыки в документальном кино говорил Герц Франк: «Приглушили, например, речь прокурора на кадрах с матерью подсудимого и судьей — и сразу появилась затаенность дыхания, возникла напряженность и кадры стали восприниматься более длинными. После последнего слова подсудимого пытались дать музыку (для «художественности») на кадрах — двери совещательной комнаты и крупный план жены шофера. Получилось неудачно, сократилось время ожидания приговора, возник преждевременный спад. Тогда мы убрали музыку, убрали даже шумы зала. Дали полную тишину. И эта полная тишина перед приговором и абсолютная неподвижность в изображении стали высшей точкой судебного процесса и всего кинорассказа, пиком душевных движений. Тишина как бы объединяла зрителей в кинозале с женой шофера в суде. По одну сторону — она и все зрители, по другую — судья в совещательной комнате. Музыка же как бы передвигала эту черту в… фильм. Получалось: по одну сторону — зрители, по другую — экран со всей своей условностью. Короче говоря, музыка в данном случае и разрушала документальность, и вносила псевдохудожественность»[26].
Отсюда следующий момент, подлежащий критике. Голдовская пишет, что «эта искусственность не вызывала практически ни у кого из современников возражений». Так ли это на самом деле? В свете высказанных размышлений справедливо предположить обратное.
Документалист поставила определенные временные рамки — «золотой век кинематографа». В различной литературе, посвященной истории кино, эти рамки рознятся. Но речь, по всей видимости, идет в том числе о 20-х и 30-х годах.
Вопреки заверениям Голдовской многие современники чрезвычайно остро реагировали на искусственность и условность экрана. Таким современником был и Луи Деллюк. «Резко и негативно критиковал Деллюк дельцов от кинематографии, пропагандирующих посредственность и дурной вкус — будь то оглупляющая мелодрама или безнадежно примитивный фарс… Деллюк не был одинок. Его поддерживали многие писатели и критики… Хранилищем затхлости назвал Деллюк большую часть французской кинопродукции, которая все еще придерживалась образцов «Фильм д’ар» более чем десятилетней давности»[27], — утверждает Ежи Теплиц.
Также Деллюк отмечал следующее: «Лучшие из наших фильмов иногда просто безобразны, потому что в них слишком сильно натужное и искусственное сознание. Как часто — все вы со мной согласитесь — кинохроника бывает самой приятной частью вечера перед экраном: армия на марше, стада в поле, спуск броненосца на воду, толпа на пляже, взлет самолетов, жизнь обезьян или смерть цветов — за несколько секунд мы получаем такое сильное впечатление, что нам кажется, будто перед нами произведения искусства. А о художественном фильме — последующих восемнадцати сотнях метров — этого не скажешь»[28].
Теплиц продолжает: «Художественный критик Эли Фор… еще более резко оценивал французские фильмы первых послевоенных лет. «Французское кино — не что иное, как дегенерировавшая форма театра, оно обречено на смерть, если не будет защищаться»»[29].
Против искусственности «худ.драмы» выступал и Дзига Вертов в своих многочисленных текстах. К примеру, в статье «Наша точка зрения» Вертов пишет следующее: «Все кинокартины прошлые и настоящие, наши и заграничные, будь то психологические, будь то детективные — литературный скелет плюс киноиллюстрации. Основная роль кино в общем плане обновления застоявшегося представления о мире вытеснена его побочными иллюстрационными функциями. Ориентация русской кинематографии на психодраму в 6-ти частях — ориентация на собственный зад. Пять лет революции прошли для кинематографа даром. Грезы о литературной постановке в ателье как о средстве спасения кинематографии — тихое помешательство потерявших способность активного мышления людей — грозит втянуть в бесславное издыхание и государственное кинопроизводство»[30].
В этом же ключе размышляли и другие теоретики и режиссеры кино. К примеру, Рене Клер боялся «возвращения тирании слова»[31], творящей театральность на экране. Тех же позиций придерживался Эйзенштейн, считавший в своей «Заявке», что с появлением речи неизбежным окажется поток «высококультурных драм» и прочих «сфотографированных представлений театрального порядка»[32] - т. е. представлений именно искусственных, условных.
В общем, недовольных неестественной для кинематографа искусственностью, унаследованной им от театра и литературы (о чем Голдовская сама и пишет), хватало.
Резюмируем сказанное. Отнюдь не условность «искусства» создает необходимую связь между киноэкраном и зрителем — искомую «магию кино». Не «кино-как-искусство», требующее интеллектуального отобщения от произведения, является источником этой «магии» и отнюдь не всякое движущееся изображение обеспечивает такую «магическую» доверительную связь.
Тогда что же?
Повторимся, что «магия кино» — это результат некоторого взаимодействия зрителя и экрана. В этом отношении большинство теоретиков обнаруживают согласие друг с другом. «Магия кино» — это доверие зрителя экрану, преодоление дистанции между первым и последним. Мы также выяснили, что «магия кино» или конвенция между зрителем и экраном свидетельствует о некотором специфическом качестве кинематографа, присущем только ему одному.
В связи с этим сформулировать вопрос следует несколько более пространно.
Какое чисто кинематографическое качество выступает причиной «магии кино» в смысле преодоления дистанции между зрителем и экраном, создания между ними конвенции?
«ДОКУМ-ХРОНИК» не без оснований смеет заявить, что качество это — природная документальность кинематографа, проистекающая из сущности всегда документальной кинокамеры. Вспомним, что мы уже говорили на этот счет: «Кино документально. Его природа определяется средством, с помощью которого кино и создается. В свою очередь природа любого средства определяется тем, ради чего оно конструировалось и к чему оно потому в большей степени предрасположено, каким вложенным в это самое средство задачам отвечает. В случае с кино — это кинокамера, или наследующая ей современная видеокамера, природа которой, определенная ее задачами, исчерпываются способностью к запечатлению видимого жизненного движения… Природа кино как «зрительного способа общения» заключается в его способности фиксировать, перефразируя Кокто, видимую жизнь за работой — конкретную, буквальную, самоигральную. Видимая жизнь составляет и исчерпывает собой объект кинематографического запечатления; это единственный материал, с которым «работает» механический кино-глаз, только так и только тогда оставаясь самим собой — камерой, запечатлевающей зримую физическую действительность»[33].
Именно документальность камеры сообщает кинематографу способность к преодолению дистанции между зрителем и экраном; именно документальность составляет «магию кино». Поэтому-то Деллюк восхищался хроникой, создаваемой только и исключительно в согласии с природой кинокамеры, в таких выражениях: «…За несколько секунд мы получаем такое сильное впечатление, что нам кажется, будто перед нами произведения искусства».
Возникает это преодоление по причинам, убедительно описанным Зигфридом Кракауэром в тон нашим умозаключениям. Теоретик пишет следующее: «Различные типы изображений вызывают разные реакции: одни обращаются непосредственно к разуму, другие воздействуют только как символы или нечто вроде них. Допустим, что, в отличие от других видов изображений, экранное влияет прежде всего на чувства зрителя, — его физиологическая природа реагирует прежде, чем его интеллект»[34].
В качестве первого и, на наш взгляд, наиболее значимого подтверждения этого замечания Кракауэр предлагает такую мысль: «Кино запечатлевает физическую реальность такой, какова она есть. Под впечатлением поразительной реальности кинокадров зритель невольно реагирует на них так же, как реагировал бы в повседневной жизни на те материальные явления, которые воспроизведены на экране. Следовательно, кинокадры воздействуют на его чувственное восприятие. Одним своим присутствием на экране они заставляют зрителя, не задумываясь, воспринимать их неопределенные формы».
Чего в достаточной ясности и прозрачности не выразил Кракауэр — и что напрямую и закономерно происходит из первого его утверждения — так это того, что именно документальным качеством кинематографического запечатления и определяется воздействующая сила движения на экране: «В соответствии с присущими кинематографу регистрирующими функциями он воспроизводит мир в движении… движение, отображенное в кинокадрах, будоражит глубины нашего организма. Оно воздействует на наши органы чувств».
Выходит такой вывод. Зритель внимателен к экрану, доверяет ему, «вживается» в него отнюдь не только из-за движения, но, в первую очередь, из-за качества этого движения — жизненного, документального качества, провоцирующего, прежде всего, наши эмпирические реакции.
Опровергая суждение Голдовской, можно сказать, что именно потому, что на экране двигался вполне конкретный, «вещной» поезд, — а отнюдь не только из-за движение вообще, — зрители испуганно бросались прочь из кинозалов.
Именно этим обуславливается, как кажется, такой ее акцент на «кинематографический реализм» в смысле некоторой органической, естественной направленности развития «киноязыка». Акцент, необходимость которого Голдовская, тем не менее, в силу своих заблуждений не смогла ясно выразить или обосновать.
И именно этим же, повторимся, оправдывается восхищение Деллюка хроникой, продолженное спустя почти полвека Андреем Тарковским, который писал: «…Люмьеровские фильмы таили в себе гениальность эстетического принципа. А сразу после них кинематограф пошел по мнимо художественному пути, который был ему навязан, по пути, наиболее верному с точки зрения обывательского интереса и выгоды…», а также: «Идеальным кинематографом мне представляется хроника: в ней я вижу не способ съемки, а способ восстановления, воссоздания жизни»[35].
Через кино, — как мы его понимаем, — зритель видит не только жизнь, но и самого себя, свое собственное переживание, свою собственную мысль, возникающие из своего же первоначально эмпирического опыта. Отсюда высокая степень отождествления, а также саморефлексия, являющаяся результатом просмотра некоторых фильмов — тех, которые отвечают или пытаются отвечать природе кинокамеры. И, в первую очередь, эта закономерность (которую мы, к слову, подтвердили на собственной практике[36]) характерна для документальных кино-вещей, исчерпывающихся работой камеры и, следовательно, ее сущностью.
Это и есть «магия кино», которая заключается в его онтологической документальности.
Наше суждение необходимо углубить и конкретизировать.
В продолжение мысли Белы Балаша, рассуждавшего о том, что иные искусства непосредственно не связаны с физической реальностью, замкнуты и герметичны в себе, о кино можно сказать следующее. Именно потому, что на экране происходит движение видимой действительности, именно потому, что видимая подвижная действительность своей физической активностью, улавливаемой киноаппаратом, свидетельствует через зрение камеры о самой себе, кино преодолевает ограниченность иных искусств, выходит за пределы их хрупкого художественного мира, противопоставленного миру реальному. Ибо «объектив открыт на мир»[37], — как отмечал оператор Люмьеров Феликс Месгиш.
Физическая реальность непосредственно необходима кинокамере (это тот самый «принципиально важный момент», о котором мы заявляли выше); без первой последняя не сможет снимать, делать кадры — реализовывать саму себя, быть самой собой. Не возникнут кадры, запечатлевающие буквальное зрение документальной камеры, а без кадров невозможен монтаж, без монтажа — конечный результат, фильм.
Из всего множества употреблений этой формулировки представляется возможным выделить нечто общее, объединяющее все эти употребления.
На наш взгляд, наиболее убедительно и объемлюще относительно иных вариантов использования словосочетание «магия кино» звучит в словах Кшиштофа Кесьлевского: «Именно в этом, среди прочего, заключается магия кино: в том, что мы, зрители, сидя в зале, внезапно ощущаем особенное напряжение между собой и экраном. Переносимся в мир, который нам показывают. Мир настолько живой, цельный и убедительный, что мы просто оказываемся в нем. Я хочу, чтобы картина меня взволновала, хочу поддаться ее волшебству — если оно там есть, — поверить в рассказанную историю»[16].
Во-первых, под «магией кино» понимается некоторое специфическое качество именно и исключительно кинематографа: «магическая» коннотация сигнализирует о своеобычности именно кино, за которой следует соответственно инаковость кинозрительского переживания, отличность его от переживания произведений традиционных искусств.
(В ином случае, конечно, говорили бы не о кино, но об искусстве вообще, о «магии искусства», ибо кинематограф легимизирован критиками и теоретиками в «семье» художеств; здесь же происходит прозрачное акцентирование на сущности кино, его отличности от мира искусства — т. е. процесс обратный, выделяющий кинематограф по определенным признакам).
Во-вторых, под этим качеством подразумевается конкретное содержание — конвенция зрителя и экрана, которая и обуславливает инаковость кинозрительского переживания.
С этим содержанием, с сутью «магии кино» мы сейчас и будем разбираться.
Зритель верит экрану, верит снятому кинокамерой. Именно верит — так, как верит тому, что видит собственными глазами.
В этом же ключе рассуждал и теоретик Бела Балаш: «Исторически более значимым преобразованием было в смысле философии искусства то, что кино не просто показывает иное, но что оно показывает иначе, что оно преодолело в сознании зрителя ощущение художественного произведения как чего-то стоящего от него в отдалении, преодолело внутреннюю дистанцию, до сих пор воспринимавшуюся как сущность эстетического переживания… Камера увлекает наш взор за собой туда, где происходит действие фильма. Мы видим все словно изнутри, как будто действующие лица вокруг нас. Им не нужно сообщать нам, что они чувствуют, мы сами видим, как они видят»[17].
Почему так происходит? За счет чего достигается такое доверие экрану? Все дело только в том, что камера показывает иначе, что она способна показать, в отличие от других искусств, движение, фиксировать некое явление с разных и при том внутренне изменчивых точек зрения, как считал Балаш? Только ли одним этим она возбуждает наше внимание? Полагаю, не совсем так.
Конечно, первые определения кинематографа исчерпывались во многом именно этой формальной особенностью киноаппарата. Так, например, рассуждал о явлении кино Антони Майклз: «Ряд отдельных изображений, зафиксированных на одной непрерывной ленте, экспонированных через равные промежутки времени, чтобы воспроизвести последовательные фазы движения. При демонстрации с быстротой, превышающей частоту слияния мельканий, свойственных человеческому глазу, отдельные изображения достаточно долго остаются в памяти зрителя, чтобы создать иллюзию непрерывного движения»[18].
Уже цитируемая нами Марина Голдовская выражает аналогичное суждение: «При всей примитивности метода съемок подобных «живых картин» можно ли найти в них нечто, способное стать «молекулой» кинематографического языка? Думается, можно. В них было движение, не просто ожившая плоскостная фотография, но движение в глубинном пространстве кадра, которое, если верить свидетельствам тех лет, заставляло первых кинозрителей в панике бросаться к выходу, спасаясь от надвигавшегося на них поезда»[19].
Неужели только движение, взятое само по себе, определяет инаковость кинематографического показа, обуславливает «эффект вживания» зрителя в пространство фильма? Только ли потому, что поезд двигался, зрители бросались в панике из кинозалов?
Как кажется, совсем не это определяет конвенцию зрителя и экрана. Точнее говоря, не только и не столько фактор движения здесь является определяющим. В ином случае всякое изменяющееся, находящееся в движении изображение вызывало бы зрительское доверие экранному действию, «вживание» в него.
Однако это, конечно, вовсе не так.
К примеру, сама Голдовская на этот счет пишет, что «сейчас, сравнивая с современными фильмы, созданные в годы, называемые «золотым веком» киноискусства, мы видим все «белые нитки»: «липовые» декорации, ненастоящие фактуры, нарочитый грим, отмечаем театральность игры, поставленность мизансцен, павильонное киноосвещение, всегда заметное своей ненатуральностью…»[20]
Значит, эта «ненатуральность», хотя бы и содержащая в себе некоторое движение, необходимое для всякого фильма, оказывается способной разрушить доверие экрану, создать дистанцию между ним и зрителем. А следовательно, отнюдь не всякое движение, не всякое движущееся изображение создает «особое напряжение между экраном и зрителем», конвенцию между ними, как считал Кесьлевский.
«Ритм-21» Рихтера с его танцующими квадратами, видимо, не то же самое, что «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» Люмьеров. Во всяком случае, от квадратов никто не убегал.
В продолжении своей мысли Голдовская пишет: «Сегодня нам понятно, что в те годы иначе и быть не могло, что эта искусственность не вызывала практически ни у кого из современников возражений. Всякому искусству, всякому историческому этапу его развития свойственна определенная мера условности. Эстетика кинематографа тех лет… была вполне органична для своего времени: нужно было определенное накопление багажа киноязыка, чтобы подняться на более высокую ступень кинематографического реализма».
Здесь следует остановиться подробнее. Разбор этих позиций, разошедшихся в качестве идейного лейтмотива на страницы многочисленных журналов и блогов, предоставит нам искомые ответы.
Кажется, будто Голдовская утверждает, что принятие некоторой условности, искусственности и позволяет зрителю довериться экрану. В этом отношении она вовсе не одинока — так рассуждают многие современные критики (на самом деле, абсолютное их большинство, придерживающееся сугубо литературной и театральной — т. е. искусствоведческой — традиции). В том же был свято убежден Мельес, как мы уже говорили.
Однако справедливо ли такое суждение применительно к кинематографу?
Условность или некий закон художественного произведения, благодаря которому фантазия художника существует в конкретных формах, есть своего рода подтверждение его — этого произведения — отобщенности от действительного существования, его герметичности, закрытости. Ибо художественное произведение действует в рамках своей художественной или духовной реальности, со своими закономерностями, которые относительно реальности физической и выступают собственно некоторой условностью.
Этот момент принципиально важен для кино.
«Основной принцип европейской эстетики и философии искусства, начиная со времен древних греков, гласит, что между человеком и произведением искусства существует внешняя и внутренняя дистанция. Согласно этому принципу, всякое произведение искусства представляет собой замкнутый микрокосм, композиционно подчиненный собственным законам. Пусть он изображает действительность, но он не имеет с ней непосредственной связи или других контактов. Произведение искусства отделено от эмпирической действительности не только рамой картины, пьедесталом скульптуры или рампой сцены. Оно отделено от действительности по самой своей сущности, по своей замкнутой композиции и своим особым закономерностям. Именно потому, что оно изображает действительность, оно не может быть продолжением действительности. Пусть я держу картину в руках, но я никогда не сумею проникнуть в то, что написано на полотне. Я не способен на это не только физически, но и мое сознание не способно на это, так как эта картина никогда не вызовет во мне представления, что я часть ее и нахожусь там, в переданном художником пространстве. Мир пьесы, разыгрываемой на сцене, остался бы замкнут для меня даже и тогда, если бы я сидел на сцене среди исполнителей или если бы зрители сидели вокруг сцены, как в цирке. И в этом случае я не смог бы принять участие в действии. Актеры говорят не мне, на меня они просто не обращают внимания. Своим присутствием я могу нарушить композицию произведения, но никогда не смогу стать частью»[21], — писал на этот счет Бела Балаш.
Иначе говоря, условность своим утверждением производит разграничение двух реальностей — физической, нерукотворной и идеальной, порожденной волей или духом художника, выраженным в конкретных рукотворных употреблениях художественных форм. Отсюда собственно и явление дистанции, характерное для традиционных искусств.
Дистанции, во-первых, внешней, физической: ибо произведение искусства, с одной стороны, завершено и неизменно в своей формальной и физической композиции (мы не в состоянии его изменить, иначе выйдет уже другое произведение или физически другой предмет); а с другой — оно не позволяет воспринять его так же, как мы эмпирически воспринимаем нашу действительность; оно существует идеально и требует соответствующего к себе (идеального, мысленного, интеллектуального) отношения — только тогда оно и возникнет перед тем, кто его созерцает или, лучше сказать, читает.
Или иначе: оно возникнет только тогда, когда его именно что читают[22].
Если мы будем смотреть на картину только как на физический объект, эмпирически, не прилагая к ней никаких интеллектуальных усилий, то она и не раскроется перед нами в своем подлинном качестве: вместо нее мы увидим фактуру мазков, цвет, структуру самого полотна, деревянную раму и т. д. Произведение требует сознания, мысли, идеи — чтения, выявляющего идеальную композицию произведения, авторские акценты, детерминирующие стереотип прочтения этого произведения и т. д.
Необходимость «прочтения», по мнению Балаша, «присутствует в любом произведении, созданном человеком сознательно». Это верно хотя бы оттого, что «мы не можем представить себе, чтобы человек, что-то создающий, не преследовал бы при этом определенной цели». Так что в любом сознательном, а значит и рукотворном произведении (тем более произведение рукотворно, чем более сознательно художник его творит) мы «будем искать смысл, предполагать, догадываться, и в случае необходимости сами его домысливать»[23].
Сознание, в свою очередь, требует отношения к объекту как к внешнему самостоятельному и законченному в себе явлению, отобщенному от действительного бытия и, следовательно, от воспринимающего его, и потому вынуждает читателя отстраниться от объекта созерцания (чтения) — признать собственную целостность и самостоятельность в столкновении с произведением — с целостным же, внутренне завершенным, неизменяемым, в общем, герметичным.
В этом отстранении, возникающем из идеальной условности, физической отобщенности от действительного бытия завершенного в себе произведения, последнее оказывается доступным к восприятию только и исключительно через считывание.
Следовательно и во-вторых, дистанции духовной, внутренней, ибо произведение искусства суть воплощение в конкретных формах авторской интенции, относительно которой наша собственная интенция, наша собственная мысль — мы сами — существуют вовне, со стороны, равно как эти формы, воплощающие замысел, существуют помимо нас, необязательно с нами, но даже без нашего участия, которое относительно произведения не необходимо, не нужно.
Автор диктует нам определенные смыслы своим произведением, его композицией, явившейся на свет как внешняя или формальная конвертация этих смыслов, объективная и неизменная относительно нашего «Я».
Проникнуть в произведение, не разрушив его, оказывается невозможным: мы или «сломаем картину» физически (буквально порвем ее), композиционно (проигнорируем или изменим формальную данность произведения), и/или «сломаем» авторскую интенцию, заменив ее собственной, не содержащейся в авторском же (всегда авторском!) произведении (т.е. не поймем автора).
В любом случае, это произведение во всей его полноте окажется нам недоступным, не будет существовать для нас как произведение.
Интеллектуальная дистанция стороннего наблюдателя, следовательно, есть необходимое условие эстетического переживания.
Взаимодействие произведения искусства и зрителя предполагает такой принцип, при котором зритель становится читателем, сторонним наблюдателем, интеллектуально препарирующим внеположенное и неизменное (в том смысле, что зритель-читатель не может на свой лад перекроить его) в своей завершенной композиции произведение в поисках заключенных в нем смыслов, принадлежащих этому произведению, изначально скроенному из авторских символических означающих форм (внешних по отношению к нам).
Произведение в некотором смысле уже содержит в себе авторскую концепцию, которую мы должны только выявить, не заменяя своей собственной концепцией. Это произведение можно признать своего рода интеллектуальной головоломкой, доступной только со стороны признающего ее внутреннюю замкнутость, законы исследователя.
Такой принцип исключает непосредственное «вживание» зрителя-читателя в произведение, предполагает консервацию его именно как стороннего (самостоятельного) интеллектуального искателя символических значений.
Ровно так, как об этом применительно к авангардному искусству говорил Ортега-и-Гассет: «Дело не в том, чтобы нарисовать что-нибудь совсем непохожее на человека — дом или гору, — но в том, чтобы нарисовать человека, который как можно менее походил бы на человека, который сохранил бы лишь безусловно необходимое для того, чтобы мы могли разгадать его метаморфозу (шрифт мой - Д.Х.)»[24].
Эта закономерность характерна для искусства вообще, выступающего всегда рукотворным искажающим реальность воплощением авторского мироощущения, результатом творческой интерпретации действительности, посредством которой или в формах которой, — отличных от действительного бытия, всегда непохожих на него — автор и доносит свое «Я», читаемое в этих самых символических (и в том всегда метаморфических, отличных от действительности) формах.
Упрощая сказанное, можно заключить, что рукотворное авторское «Я», воплощенное в произведении искусства, всегда находится относительно действительного бытия и воспринимающего этого произведение на дистанции, как на дистанции находятся два разных человека — со своей мыслью, своим духом, своим сознанием, своим телом и т. д.
Однако в случае с киноэкраном, в случае с «магией кино» рассуждают именно о преодолении дистанции между кинематографом и зрителем! Тот же Балаш подчеркивал выше такое качество кинематографического переживания, составляющее инаковость последнего относительно иных искусств.
Это подтверждает и Кракауэр: «Однажды в беседе с одной впечатлительной француженкой автор настоящей книги как-то услышал такую фразу: «В театре я всегда остаюсь самой собой, а в кино я растворяюсь во всех предметах и живых существах». Об этом же процессе растворения подробнее пишет Валлон: «Если фильму удается воздействовать на меня, то это происходит лишь потому, что я в той или иной мере отождествляю себя с экранными образами. Я больше не живу своей жизнью, я живу в фильме, проходящем перед глазами»[25].
Принятие некоторой условности, искусственности, ее осознание, стало быть, не может обеспечить зрительского доверия экрану, но наоборот — разрушит это самое доверие, разорвет зрительную связь человека и кинематографа — создаст ту самую дистанцию, которую «магия кино», по словам Кесьлевского, должна преодолевать.
Об этом весьма справедливо применительно к употреблению музыки в документальном кино говорил Герц Франк: «Приглушили, например, речь прокурора на кадрах с матерью подсудимого и судьей — и сразу появилась затаенность дыхания, возникла напряженность и кадры стали восприниматься более длинными. После последнего слова подсудимого пытались дать музыку (для «художественности») на кадрах — двери совещательной комнаты и крупный план жены шофера. Получилось неудачно, сократилось время ожидания приговора, возник преждевременный спад. Тогда мы убрали музыку, убрали даже шумы зала. Дали полную тишину. И эта полная тишина перед приговором и абсолютная неподвижность в изображении стали высшей точкой судебного процесса и всего кинорассказа, пиком душевных движений. Тишина как бы объединяла зрителей в кинозале с женой шофера в суде. По одну сторону — она и все зрители, по другую — судья в совещательной комнате. Музыка же как бы передвигала эту черту в… фильм. Получалось: по одну сторону — зрители, по другую — экран со всей своей условностью. Короче говоря, музыка в данном случае и разрушала документальность, и вносила псевдохудожественность»[26].
Отсюда следующий момент, подлежащий критике. Голдовская пишет, что «эта искусственность не вызывала практически ни у кого из современников возражений». Так ли это на самом деле? В свете высказанных размышлений справедливо предположить обратное.
Документалист поставила определенные временные рамки — «золотой век кинематографа». В различной литературе, посвященной истории кино, эти рамки рознятся. Но речь, по всей видимости, идет в том числе о 20-х и 30-х годах.
Вопреки заверениям Голдовской многие современники чрезвычайно остро реагировали на искусственность и условность экрана. Таким современником был и Луи Деллюк. «Резко и негативно критиковал Деллюк дельцов от кинематографии, пропагандирующих посредственность и дурной вкус — будь то оглупляющая мелодрама или безнадежно примитивный фарс… Деллюк не был одинок. Его поддерживали многие писатели и критики… Хранилищем затхлости назвал Деллюк большую часть французской кинопродукции, которая все еще придерживалась образцов «Фильм д’ар» более чем десятилетней давности»[27], — утверждает Ежи Теплиц.
Также Деллюк отмечал следующее: «Лучшие из наших фильмов иногда просто безобразны, потому что в них слишком сильно натужное и искусственное сознание. Как часто — все вы со мной согласитесь — кинохроника бывает самой приятной частью вечера перед экраном: армия на марше, стада в поле, спуск броненосца на воду, толпа на пляже, взлет самолетов, жизнь обезьян или смерть цветов — за несколько секунд мы получаем такое сильное впечатление, что нам кажется, будто перед нами произведения искусства. А о художественном фильме — последующих восемнадцати сотнях метров — этого не скажешь»[28].
Теплиц продолжает: «Художественный критик Эли Фор… еще более резко оценивал французские фильмы первых послевоенных лет. «Французское кино — не что иное, как дегенерировавшая форма театра, оно обречено на смерть, если не будет защищаться»»[29].
Против искусственности «худ.драмы» выступал и Дзига Вертов в своих многочисленных текстах. К примеру, в статье «Наша точка зрения» Вертов пишет следующее: «Все кинокартины прошлые и настоящие, наши и заграничные, будь то психологические, будь то детективные — литературный скелет плюс киноиллюстрации. Основная роль кино в общем плане обновления застоявшегося представления о мире вытеснена его побочными иллюстрационными функциями. Ориентация русской кинематографии на психодраму в 6-ти частях — ориентация на собственный зад. Пять лет революции прошли для кинематографа даром. Грезы о литературной постановке в ателье как о средстве спасения кинематографии — тихое помешательство потерявших способность активного мышления людей — грозит втянуть в бесславное издыхание и государственное кинопроизводство»[30].
В этом же ключе размышляли и другие теоретики и режиссеры кино. К примеру, Рене Клер боялся «возвращения тирании слова»[31], творящей театральность на экране. Тех же позиций придерживался Эйзенштейн, считавший в своей «Заявке», что с появлением речи неизбежным окажется поток «высококультурных драм» и прочих «сфотографированных представлений театрального порядка»[32] - т. е. представлений именно искусственных, условных.
В общем, недовольных неестественной для кинематографа искусственностью, унаследованной им от театра и литературы (о чем Голдовская сама и пишет), хватало.
Резюмируем сказанное. Отнюдь не условность «искусства» создает необходимую связь между киноэкраном и зрителем — искомую «магию кино». Не «кино-как-искусство», требующее интеллектуального отобщения от произведения, является источником этой «магии» и отнюдь не всякое движущееся изображение обеспечивает такую «магическую» доверительную связь.
Тогда что же?
Повторимся, что «магия кино» — это результат некоторого взаимодействия зрителя и экрана. В этом отношении большинство теоретиков обнаруживают согласие друг с другом. «Магия кино» — это доверие зрителя экрану, преодоление дистанции между первым и последним. Мы также выяснили, что «магия кино» или конвенция между зрителем и экраном свидетельствует о некотором специфическом качестве кинематографа, присущем только ему одному.
В связи с этим сформулировать вопрос следует несколько более пространно.
Какое чисто кинематографическое качество выступает причиной «магии кино» в смысле преодоления дистанции между зрителем и экраном, создания между ними конвенции?
«ДОКУМ-ХРОНИК» не без оснований смеет заявить, что качество это — природная документальность кинематографа, проистекающая из сущности всегда документальной кинокамеры. Вспомним, что мы уже говорили на этот счет: «Кино документально. Его природа определяется средством, с помощью которого кино и создается. В свою очередь природа любого средства определяется тем, ради чего оно конструировалось и к чему оно потому в большей степени предрасположено, каким вложенным в это самое средство задачам отвечает. В случае с кино — это кинокамера, или наследующая ей современная видеокамера, природа которой, определенная ее задачами, исчерпываются способностью к запечатлению видимого жизненного движения… Природа кино как «зрительного способа общения» заключается в его способности фиксировать, перефразируя Кокто, видимую жизнь за работой — конкретную, буквальную, самоигральную. Видимая жизнь составляет и исчерпывает собой объект кинематографического запечатления; это единственный материал, с которым «работает» механический кино-глаз, только так и только тогда оставаясь самим собой — камерой, запечатлевающей зримую физическую действительность»[33].
Именно документальность камеры сообщает кинематографу способность к преодолению дистанции между зрителем и экраном; именно документальность составляет «магию кино». Поэтому-то Деллюк восхищался хроникой, создаваемой только и исключительно в согласии с природой кинокамеры, в таких выражениях: «…За несколько секунд мы получаем такое сильное впечатление, что нам кажется, будто перед нами произведения искусства».
Возникает это преодоление по причинам, убедительно описанным Зигфридом Кракауэром в тон нашим умозаключениям. Теоретик пишет следующее: «Различные типы изображений вызывают разные реакции: одни обращаются непосредственно к разуму, другие воздействуют только как символы или нечто вроде них. Допустим, что, в отличие от других видов изображений, экранное влияет прежде всего на чувства зрителя, — его физиологическая природа реагирует прежде, чем его интеллект»[34].
В качестве первого и, на наш взгляд, наиболее значимого подтверждения этого замечания Кракауэр предлагает такую мысль: «Кино запечатлевает физическую реальность такой, какова она есть. Под впечатлением поразительной реальности кинокадров зритель невольно реагирует на них так же, как реагировал бы в повседневной жизни на те материальные явления, которые воспроизведены на экране. Следовательно, кинокадры воздействуют на его чувственное восприятие. Одним своим присутствием на экране они заставляют зрителя, не задумываясь, воспринимать их неопределенные формы».
Чего в достаточной ясности и прозрачности не выразил Кракауэр — и что напрямую и закономерно происходит из первого его утверждения — так это того, что именно документальным качеством кинематографического запечатления и определяется воздействующая сила движения на экране: «В соответствии с присущими кинематографу регистрирующими функциями он воспроизводит мир в движении… движение, отображенное в кинокадрах, будоражит глубины нашего организма. Оно воздействует на наши органы чувств».
Выходит такой вывод. Зритель внимателен к экрану, доверяет ему, «вживается» в него отнюдь не только из-за движения, но, в первую очередь, из-за качества этого движения — жизненного, документального качества, провоцирующего, прежде всего, наши эмпирические реакции.
Опровергая суждение Голдовской, можно сказать, что именно потому, что на экране двигался вполне конкретный, «вещной» поезд, — а отнюдь не только из-за движение вообще, — зрители испуганно бросались прочь из кинозалов.
Именно этим обуславливается, как кажется, такой ее акцент на «кинематографический реализм» в смысле некоторой органической, естественной направленности развития «киноязыка». Акцент, необходимость которого Голдовская, тем не менее, в силу своих заблуждений не смогла ясно выразить или обосновать.
И именно этим же, повторимся, оправдывается восхищение Деллюка хроникой, продолженное спустя почти полвека Андреем Тарковским, который писал: «…Люмьеровские фильмы таили в себе гениальность эстетического принципа. А сразу после них кинематограф пошел по мнимо художественному пути, который был ему навязан, по пути, наиболее верному с точки зрения обывательского интереса и выгоды…», а также: «Идеальным кинематографом мне представляется хроника: в ней я вижу не способ съемки, а способ восстановления, воссоздания жизни»[35].
Через кино, — как мы его понимаем, — зритель видит не только жизнь, но и самого себя, свое собственное переживание, свою собственную мысль, возникающие из своего же первоначально эмпирического опыта. Отсюда высокая степень отождествления, а также саморефлексия, являющаяся результатом просмотра некоторых фильмов — тех, которые отвечают или пытаются отвечать природе кинокамеры. И, в первую очередь, эта закономерность (которую мы, к слову, подтвердили на собственной практике[36]) характерна для документальных кино-вещей, исчерпывающихся работой камеры и, следовательно, ее сущностью.
Это и есть «магия кино», которая заключается в его онтологической документальности.
Наше суждение необходимо углубить и конкретизировать.
В продолжение мысли Белы Балаша, рассуждавшего о том, что иные искусства непосредственно не связаны с физической реальностью, замкнуты и герметичны в себе, о кино можно сказать следующее. Именно потому, что на экране происходит движение видимой действительности, именно потому, что видимая подвижная действительность своей физической активностью, улавливаемой киноаппаратом, свидетельствует через зрение камеры о самой себе, кино преодолевает ограниченность иных искусств, выходит за пределы их хрупкого художественного мира, противопоставленного миру реальному. Ибо «объектив открыт на мир»[37], — как отмечал оператор Люмьеров Феликс Месгиш.
Физическая реальность непосредственно необходима кинокамере (это тот самый «принципиально важный момент», о котором мы заявляли выше); без первой последняя не сможет снимать, делать кадры — реализовывать саму себя, быть самой собой. Не возникнут кадры, запечатлевающие буквальное зрение документальной камеры, а без кадров невозможен монтаж, без монтажа — конечный результат, фильм.
И даже если фильм или кино-вещь безмонтажны — они в любом случае невозможны без кадров и без камеры, аккумулирующей свою документальную природу в этих кадрах, буквально фиксирующих буквальную же реальность.
В этом отношении реальность кино, — материальная действительность, — составляющая единственно возможный материал кинематографического запечатления, противопоставляется реальности художественной, иллюзорной, «кажущейся» реальности искусства. Происходит снятие дистанций, характерных для традиционных искусств, ибо камера действует в рамках оптических законов, законов физического бытия, подчинена им в реализации самой себя — подчинена действительности, которой также подчинен действительно существующий зритель, чьи глаза функционируют по аналогичным оптическим законам.
Именно благодаря единству этих оптических законов, единству действительности, в пределах которой существуют и камера, и человеческий глаз, действующий по тому же принципу, что и объектив, выхватывающий отраженный от объектов (и в том видимых) свет, происходит их отождествление при просмотре.
Единством оптических законов, единством действительности зрителя и объектива, транслирующего на экран свое документальное зрение, достигается соответственно единство физических обстоятельств, ибо и камера, и глаз человека работают аналогичным способом и с аналогичным материалом — зримой реально существующей действительностью. Единство физических обстоятельств обеспечивает преодоление физической, внешней дистанции, выводя на первый план эмпирические реакции зрителя, за которыми, в свою очередь, следует его личная духовная активность — как за всяким субъективным эмпирическим опытом следует субъективная же мысль.
В результате происходит снятие и внутренней дистанции, ибо смотрящий присваивает себе зрительный опыт, который, становясь в своей жизненности субъективным, провоцирует личное размышление.
Благодаря природной документальности кинематографа, оперирующего образами происходящей перед объективом жизни, зритель способен довериться экранному движению, растворится в нем, пережить его так же, как он растворяется в собственной жизни, как он сам переживает самого себя.
В общем, испытать «магию кино» — значит отождествить собственное зрение со зрением объектива; увидеть через него действительную жизнь, какую он запечатлел. И не только увидеть, но и присвоить увиденное, прочувствовать это увиденное как собственный эмпирический зрительный опыт. Ибо, как верно отмечал Кавальканти[38], камера буквальна: это ее свойство позволяет делегировать право первовоспринимающего происходящее жизненное движение зрителю.
«Кино — есть и окно, и зеркало»[39], — как мы уже отмечали. Эта формулировка вмещает в себя также и смысл документальности. Мы верим увиденному, потому что увиденное, во-первых, жизненно (окно в мир), а во-вторых, буквально происходит перед нашими собственными глазами, в этих глазах, в нас самих (зеркало в нас).
«Магия кино», таким образом, вовсе не магия, не иллюзия, но вполне конкретное свойство документальной камеры, способной созерцать нерукотворную действительность в движении — жизненное движение.
Дабы закрыть вопрос действительной жизненности документального запечатления киноаппарата в пределах настоящего текста (этот фундаментальный вопрос будет целенаправленно нами исследоваться позже, в других публикациях), вспомним суждение, которое мы уже применяли: «Жизненное качество кинематографа следует понимать в смысле источника и одновременно ресурса — материала, составляющего кинотворческий процесс. Это сама жизнь, пульсирующая перед объективом и впечатляющая человека с киноаппаратом. Именно жизнь, а не ее иллюзия, как некоторые критики и теоретики... опрометчиво заявляют, оправдывая превосходство игровой формы экрана. Ибо иллюзия — это образ без прообраза, то есть репрезентация объекта без самого объекта, без его исходного наличия — мистический симулякр. В кино же каждый кадр — регистрация конкретного явления на пленке или цифровом носителе, визуальная демонстрация его схваченного образа, то есть эйдос. Не будь этих явления или объекта, не было бы и кадра».
Иначе говоря, акт кинематографического запечатления не есть акт воплощения рукотворной иллюзии, не есть создание «кажущейся» ирреальной действительности. Запечатление или регистрация нерукотворного, неподконтрольного художнической руке физического объекта происходит в массе его таких же нерукотворных физических качеств, его действительного - нерукотворного - физического бытия, благодаря которому на него реагирует свет, делающий объект физически видимым и пригодным для зрения и запечатления. Действительно существующий объект являет себя, своё фактическое существование своей же физической активностью в зрении наблюдающего его и никак иначе.
Законы изображения действительности в этом смысле не создают идеальный или другой мир, как некоторые могут говорить, но являются продолжением самой действительности (то есть делает то, чего не могут делать произведения традиционных искусств, как об этом выше говорил Балаш), из которой документальное изображение и происходит. Изображение действительности есть зримый эквивалент реального сущего, есть образ, повторяющий свой прообраз, из которого этот образ и проистекает. Есть, наконец, тождество означаемого и означающего, как мы об этом уже говорили в цикле статей по документальному образу.
Это справедливо также ещё и потому, что действительность вообще относительно её восприятия существует всегда в некоторой форме восприятия; читай, относительно воспринимающего - в некоторых своих эквивалентах. И поскольку действительность являет себя как в своих малых частях, так и во всей своей бесконечности, поскольку действительность являет себя в органах чувств, раздраженных действительностью, эквивалент действительности несомненно действителен, как действительно, скажем, проецируемое изображение на зеркало (полагаю, никто не станет спекулировать - лгать - на том, что зеркало отображает иной, параллельный нашему мир, ибо оно не воспринимает, например, запахи или звуки).
Как верно отмечал Кракауэр, зафиксированное камерой «изображение не имеет ничего общего с вдохновенной интерпретацией... художника... Из всех существующих средств выражения только кино отражает природу, как в зеркале»[40].
В общем, сама жизнь являет себя в своем же зримом эквиваленте, в зрении воспринимающего её и тем более - в зрении механического кино-глаза, нацеленного на регистрацию физических зримых явлений и исчерпывающийся этой своей способностью.
Об этом, впрочем, мы целенаправленно поговорим позже, в другом тексте.
Жизненностью документального изображения объясняется, во-первых, преодоление дистанции между зрителем и экраном, а во-вторых — инаковость кино, стоящего особняком от мира искусства.
Инаковость кинематографического показа содержится не столько в движении, сколько в его жизненном качестве: в способности камеры запечатлевать жизнь, которую на экране мы видим иначе отнюдь не только из-за движения (здесь следует вступить также и в столкновение с Балашем) или из-за некоей художнической условности, насажденной извне, но из-за того, что камера, наблюдая ту же действительность, вместе с тем наблюдает действительность большую в сравнении с той, какая доступна ограниченному человеческому глазу.
В этом отношении реальность кино, — материальная действительность, — составляющая единственно возможный материал кинематографического запечатления, противопоставляется реальности художественной, иллюзорной, «кажущейся» реальности искусства. Происходит снятие дистанций, характерных для традиционных искусств, ибо камера действует в рамках оптических законов, законов физического бытия, подчинена им в реализации самой себя — подчинена действительности, которой также подчинен действительно существующий зритель, чьи глаза функционируют по аналогичным оптическим законам.
Именно благодаря единству этих оптических законов, единству действительности, в пределах которой существуют и камера, и человеческий глаз, действующий по тому же принципу, что и объектив, выхватывающий отраженный от объектов (и в том видимых) свет, происходит их отождествление при просмотре.
Единством оптических законов, единством действительности зрителя и объектива, транслирующего на экран свое документальное зрение, достигается соответственно единство физических обстоятельств, ибо и камера, и глаз человека работают аналогичным способом и с аналогичным материалом — зримой реально существующей действительностью. Единство физических обстоятельств обеспечивает преодоление физической, внешней дистанции, выводя на первый план эмпирические реакции зрителя, за которыми, в свою очередь, следует его личная духовная активность — как за всяким субъективным эмпирическим опытом следует субъективная же мысль.
В результате происходит снятие и внутренней дистанции, ибо смотрящий присваивает себе зрительный опыт, который, становясь в своей жизненности субъективным, провоцирует личное размышление.
Благодаря природной документальности кинематографа, оперирующего образами происходящей перед объективом жизни, зритель способен довериться экранному движению, растворится в нем, пережить его так же, как он растворяется в собственной жизни, как он сам переживает самого себя.
В общем, испытать «магию кино» — значит отождествить собственное зрение со зрением объектива; увидеть через него действительную жизнь, какую он запечатлел. И не только увидеть, но и присвоить увиденное, прочувствовать это увиденное как собственный эмпирический зрительный опыт. Ибо, как верно отмечал Кавальканти[38], камера буквальна: это ее свойство позволяет делегировать право первовоспринимающего происходящее жизненное движение зрителю.
«Кино — есть и окно, и зеркало»[39], — как мы уже отмечали. Эта формулировка вмещает в себя также и смысл документальности. Мы верим увиденному, потому что увиденное, во-первых, жизненно (окно в мир), а во-вторых, буквально происходит перед нашими собственными глазами, в этих глазах, в нас самих (зеркало в нас).
«Магия кино», таким образом, вовсе не магия, не иллюзия, но вполне конкретное свойство документальной камеры, способной созерцать нерукотворную действительность в движении — жизненное движение.
Дабы закрыть вопрос действительной жизненности документального запечатления киноаппарата в пределах настоящего текста (этот фундаментальный вопрос будет целенаправленно нами исследоваться позже, в других публикациях), вспомним суждение, которое мы уже применяли: «Жизненное качество кинематографа следует понимать в смысле источника и одновременно ресурса — материала, составляющего кинотворческий процесс. Это сама жизнь, пульсирующая перед объективом и впечатляющая человека с киноаппаратом. Именно жизнь, а не ее иллюзия, как некоторые критики и теоретики... опрометчиво заявляют, оправдывая превосходство игровой формы экрана. Ибо иллюзия — это образ без прообраза, то есть репрезентация объекта без самого объекта, без его исходного наличия — мистический симулякр. В кино же каждый кадр — регистрация конкретного явления на пленке или цифровом носителе, визуальная демонстрация его схваченного образа, то есть эйдос. Не будь этих явления или объекта, не было бы и кадра».
Иначе говоря, акт кинематографического запечатления не есть акт воплощения рукотворной иллюзии, не есть создание «кажущейся» ирреальной действительности. Запечатление или регистрация нерукотворного, неподконтрольного художнической руке физического объекта происходит в массе его таких же нерукотворных физических качеств, его действительного - нерукотворного - физического бытия, благодаря которому на него реагирует свет, делающий объект физически видимым и пригодным для зрения и запечатления. Действительно существующий объект являет себя, своё фактическое существование своей же физической активностью в зрении наблюдающего его и никак иначе.
Законы изображения действительности в этом смысле не создают идеальный или другой мир, как некоторые могут говорить, но являются продолжением самой действительности (то есть делает то, чего не могут делать произведения традиционных искусств, как об этом выше говорил Балаш), из которой документальное изображение и происходит. Изображение действительности есть зримый эквивалент реального сущего, есть образ, повторяющий свой прообраз, из которого этот образ и проистекает. Есть, наконец, тождество означаемого и означающего, как мы об этом уже говорили в цикле статей по документальному образу.
Это справедливо также ещё и потому, что действительность вообще относительно её восприятия существует всегда в некоторой форме восприятия; читай, относительно воспринимающего - в некоторых своих эквивалентах. И поскольку действительность являет себя как в своих малых частях, так и во всей своей бесконечности, поскольку действительность являет себя в органах чувств, раздраженных действительностью, эквивалент действительности несомненно действителен, как действительно, скажем, проецируемое изображение на зеркало (полагаю, никто не станет спекулировать - лгать - на том, что зеркало отображает иной, параллельный нашему мир, ибо оно не воспринимает, например, запахи или звуки).
Как верно отмечал Кракауэр, зафиксированное камерой «изображение не имеет ничего общего с вдохновенной интерпретацией... художника... Из всех существующих средств выражения только кино отражает природу, как в зеркале»[40].
В общем, сама жизнь являет себя в своем же зримом эквиваленте, в зрении воспринимающего её и тем более - в зрении механического кино-глаза, нацеленного на регистрацию физических зримых явлений и исчерпывающийся этой своей способностью.
Об этом, впрочем, мы целенаправленно поговорим позже, в другом тексте.
Жизненностью документального изображения объясняется, во-первых, преодоление дистанции между зрителем и экраном, а во-вторых — инаковость кино, стоящего особняком от мира искусства.
Инаковость кинематографического показа содержится не столько в движении, сколько в его жизненном качестве: в способности камеры запечатлевать жизнь, которую на экране мы видим иначе отнюдь не только из-за движения (здесь следует вступить также и в столкновение с Балашем) или из-за некоей художнической условности, насажденной извне, но из-за того, что камера, наблюдая ту же действительность, вместе с тем наблюдает действительность большую в сравнении с той, какая доступна ограниченному человеческому глазу.
К примеру, простое укрупнение некоторых далеко лежащих или просто небольших объектов никак не изменяет эти объекты даже при условии того, что зрение человека благодаря камере оказывается преодоленным, усовершенствованным: мы видим, конечно, больше, но при этом видим так же и тот же самый объект. Камера только открывает его для ограниченного глаза. При приближении листка мы увидим его жилки (и восхитимся ими), которые обычно не замечаем. Увидим так же (ибо оптические законы не меняются) и тот же листок, но больше того, на что способно наше зрение относительно этого листка.
Об этом, к слову, писал и Кракауэр: «Кино не только воспроизводит на экране физическую реальность, но и выявляет ее обычно скрытые от нас аспекты, которые раскрываются в материале съемки благодаря применению особой кинематографической техники. Здесь важно подчеркнуть то обстоятельство, что такие открытия… служат дополнительной нагрузкой для физиологической конституции зрителя. Неведомые формы, возникающие перед ним на экране, стимулируют не его интеллект, а органическую реактивность. Возбуждая любопытство, они вовлекают зрителя в те сферы, в которых чувственные впечатления являются решающими».
В этом же ключе некогда писали и мы: «Документальный образ потому и образ, отличающийся от того, что видит человеческий глаз вне экрана, и потому возбуждающий его внимание, побуждающий к мысли, что зафиксирован естественно остраняющей относительно ограниченного глаза естественные же явление или объект камерой»[41].
Иначе говоря, происходит как бы органическое, естественное нарушение (лучше сказать расширение) конвенции, которая нарушается (или расширяется) не отобщенностью от действительности, не художнической условностью, требующей «разгадывания авторских смыслов», но именно потому, что изображение в основе своей естественно, жизненно, нерукотворно — и в том, наоборот, конвенционально.
Эмпирическая реакция как результат столкновения с самозначным нетрактуемым документальным образом отбрасывает на второй план реакции интеллектуального порядка, непосредственно не содержащееся в рамках этого образа - и даже не необходимые.
Если ещё проще, то удивляет и привлекает нас не интеллектуальная насыщенность, скажем, крупного плана листка, который означает тот же самый листок, взятый крупно, — и ничего более того (мыслям негде развернуться, разве что они могут возникнуть из надумываний субъективного переживания, находящегося относительно документального образа извне) — но его видимость, отличная от той, какую мы достигаем собственным не-кинофицированным глазом.
Эмпирическая антиконвенциональность (или расширенная конвенция) в этом смысле возникает не из отстранения глаз и сознания зрителя, — создающим интеллектуальную дистанцию, характерную для традиционных искусств- т. е. по причинам или по закономерностям не антиконвенциональным, а наоборот — из их приближения, из их отождествления и «вживания» в экран, т. е. в рамках все той же эмпирической конвенции.
В общем, отождествление (не уравнивание, — ибо камера видит больше, — но именно отождествление!) зрения человека и зрения камеры, сопряженное с бесконечно возбуждающей эмпирическое внимание способностью последней видеть больше человеческого глаза, достигается именно за счет документальности камеры, а отнюдь не из-за условности искусства, предполагающей интеллектуальные реакции стороннего наблюдателя.
Именно эта документальность и составляет искомую «магию кино».
Весьма показательны в этом отношения свидетельства Кракауэра, которые он в большом объеме приводит: «По утверждению Гофмансталя, для массового зрителя сидеть в кинотеатре и смотреть фильм — это примерно все равно, что «лететь по воздуху с дьяволом Асмодеем, срывающим крыши со всех домов, обнажающим тайны чужих жизней». Иначе говоря, он имеет в виду, что кино предлагает жизнь в ее неисчерпаемом богатстве тому зрителю, который такой жизни лишен. И он сравнивает сны, показываемые на экране, со «сверкающим, вечно вертящимся колесом жизни». Высказывания, подтверждающие оба его предположения — что жажда «настоящей» жизни есть явление широко распространенное и что кино на редкость приспособлено для ее удовлетворения, — проходят красной нитью сквозь всю историю кино. Еще в 1919 году один венский критик писал, что в кино мы ощущаем «пульсацию самой жизни… и предаемся ее потрясающе щедрому изобилию, несравненно превосходящему границы нашего воображения». В 1930 году французский писатель Боклер, превознося кинематограф за то, что в нем так же, как в сновидении, нам доступна вся вселенная, приводит слова, услышанные им однажды в кинотеатре от незнакомого человека: «Кино дорого мне не меньше жизни». Эту фразу можно было бы предпослать в виде эпиграфа докторской диссертации Вольфганга Вильхельма на тему «О возвышающем действии кино», которую он написал на материале опроса немецких кинозрителей и защитил в 1940 году. Вильхельм использовал в ней данные анкет, заполненных двадцатью студентами и преподавателями университета, а также записи двадцати трех пространных интервью, взятых у представителей различных профессиональных и возрастных групп… Вот образцы ответов, цитируемых в диссертации Вильхельма:
«Фильм больше похож на жизнь, чем театр. В театре я смотрю произведение искусства, которое и выглядит как-то искусственно. А после просмотра фильма у меня такое чувство, будто я побывала в гуще жизни» (домашняя хозяйка).
«Каждому, в конце концов, хочется что-то получить от жизни» (молодой рабочий).
«Хороший фильм помогает соприкоснуться с людьми и жизнью» (медсестра).
«Чем менее интересны мои знакомые, тем чаще я хожу в кино» (бизнесмен).
«Подчас меня гонит в кино какой-то голод по людям» (студент)»[42].
«Магия кино» — это не сон наяву, а явь наяву, жизнь, увиденная заново, умноженная расширяющей человеческое зрение камерой, способной зрительно охватить явления подвижной действительности, не доступные глазу человека.
И в этом также заключается «магическое» свойство кино, провоцирующее восхищение, удивляющее и поражающее воображение невиданными вне камеры формами и гранями реальной жизни.
Свойство кино, удивляющее именно потому, что формы и грани эти — жизненны.
Теперь, как нам кажется, оправданным будет решение завершить критику позиций Марины Голдовской.
В качестве очередного доказательства заблуждений, развенчанных нами выше, режиссер пишет следующее: «Первые кинозрители восприняли увиденное лишь как «живую фотографию», как новое техническое открытие, позволившее, наконец, после долгих экспериментов многих изобретателей в разных уголках мира фиксировать на экране движение… Даже сами изобретатели кино — братья Люмьеры — считали свое детище лишь технической "игрушкой"…»[43] Точно в таких же формулировках некогда заблуждались и мы[44]…
Разберемся по порядку.
Вот что пишет насчет первых кинозрителей, воспринявших увиденное «лишь как живую фотографию», Кракауэр: «Современники хвалили фильмы Люмьера за те самые качества, которые особенно подчеркивались пророками и провозвестниками кинематографа. Во всех отзывах о Люмьере непременно и излишне восторженно упоминался «трепет листьев на ветру». Парижский журналист Анри де Парвиль, которому принадлежит это образное выражение, определил главную тему Люмьера словами: «природа, застигнутая врасплох». Другие указывали на пользу, которую сможет извлечь из нового изобретения Люмьера наука. В Америке реализм кинокамеры взял верх над кинетоскопом Эдисона, показывавшим инсценировки»[45].
Первые кинозрители восхитились отнюдь не простым движением, но именно движением жизни. К кинематографу не все относились как к простой технической «игрушке», но как к удивительному механизму, расширяющему человеческое зрение.
Кракауэр отмечает, что «всем хотелось получить аппарат, который запечатлевал бы самые пустячные события окружающего нас мира — уличные сцены, так часто привлекающие толпу, стихийные движения которой чем-то напоминают движения волн или листьев. В достопамятном высказывании сэра Джона Гершеля, опубликованном еще до появления моментальной фотографии, он не только предвидел основные характеристики кинокамеры, но и предопределил ее и поныне актуальные задачи: «…живая и точная репродукция всего, что происходит в реальной жизни, — баталий, диспутов, публичных торжеств, кулачных расправ, репродукция, которая будет передаваться из рук в руки каждому следующему поколению, вплоть до самого отдаленного». И Дюкос дю Корон и другие провозвестники кинематографа видели в своих мечтах то, что мы теперь называем кинохроникой и документальным кино — то есть фильмы, посвященные событиям действительности. Настойчивое подчеркивание летописного назначения фильмов сопровождалось надеждами, что они помогут нам увидеть движения, не воспринимаемые в нормальных условиях или не воспроизводимые иными средствами — такие, как мгновенные трансформации материи, медленный рост растений и т. п.»[46]
Повторимся, во главе угла стояло именно восхищение красотой жизненного движения, достигнутой расширяющей возможности человеческого зрения камерой — ее собственным зрением. Восхищение, отражающее, как писал Балаш, рождение нового эстетического принципа, преодолевающего в силу жизненности изображения дистанцию между экраном и зрителем.
Отсюда же, к слову сказать, явление фотогении Деллюка (вспомним, как он восхищался хроникой), которая заключается в следующем: «Красота… выявляется фотографией, а не создается заново». Тайна фотогении, по Деллюку, заключается в «максимальном проникновении в предмет»[47], а отнюдь не в конструировании его.
Теперь что касается отношения Люмьеров к своему собственному изобретению. Несомненно, будучи фабрикантами, они согласовывали свое детище с массовым (читай, коммерческим) интересом: отсюда, к примеру, их постановочные и фокуснические ленты.
Однако было и иное.
Об этом пишет киновед Галина Прожико: «Луи Люмьер предполагал, что его аппарат создан для регистрации жизни, для фиксации свободного движения природы. И он не желал видеть в кино что-либо иное. Это было первое кредо документалиста. Эта доктрина так врезалась в сознание его операторов, что сорок лет спустя один из них, Феликс Месгиш, писал в своей книге «Вертя ручку»: «На мой взгляд, братья Люмьер правильно определили область кино. Для изучения человеческого сердца достаточно романа и театра. Кино — это динамика жизни и природы во всех ее проявлениях, это толпа и ее волнения. Все, в чем есть движение, относится к кино. Его объектив открыт на мир». «Открыть объектив на мир» — таков был единственный девиз, которому следовали операторы фирмы Люмьер: Промио, Месгиш и др.»[48]
(Кстати, эту же цитату Месгиша употребляет и Голдовская).
Что она, эта цитата, если поразмыслить, означает для нас? Люмьеры, сами некогда фотографы, прекрасно осознавали ценность и значение кинематографического запечатления, заключающееся в том, что камера способна заново открыть мир — ЖИЗНЬ — для человека! Суждение такими возвышенными категориями не укладывается в примитивное определение, предложенное Голдовской.
Наконец, само понятие «живая фотография» содержит в себе искомое значение кинематографии — движения жизни, явленной в новом относительно человеческого глаза качестве.
Теперь, последовательно разобравшись в сущности формулировки «магия кино», попутно развенчав некоторые заблуждения, с этой формулировкой связанные, следует обратиться ко второму, не менее важному вопросу.
Мы выяснили, что формулировка «магия кино» в полной мере раскрывается именно в рамках документализма, а следовательно, она — эта «магия» — наиболее достижима в пределах подлинного кинематографа — документально-хроникального кино, существующего только и исключительно в рамках закономерностей киноаппарата.
Однако мы также писали в самом начале, что это понятие в результате исторических хитросплетений оказалось тесно связанным с игровым фильмом. Именно относительно него — как это не парадоксально в свете изложенного суждения, — чаще всего приходится слышать о некоей «магии кинематографа».
Об этом, к слову, писал и Кракауэр: «Кино не только воспроизводит на экране физическую реальность, но и выявляет ее обычно скрытые от нас аспекты, которые раскрываются в материале съемки благодаря применению особой кинематографической техники. Здесь важно подчеркнуть то обстоятельство, что такие открытия… служат дополнительной нагрузкой для физиологической конституции зрителя. Неведомые формы, возникающие перед ним на экране, стимулируют не его интеллект, а органическую реактивность. Возбуждая любопытство, они вовлекают зрителя в те сферы, в которых чувственные впечатления являются решающими».
В этом же ключе некогда писали и мы: «Документальный образ потому и образ, отличающийся от того, что видит человеческий глаз вне экрана, и потому возбуждающий его внимание, побуждающий к мысли, что зафиксирован естественно остраняющей относительно ограниченного глаза естественные же явление или объект камерой»[41].
Иначе говоря, происходит как бы органическое, естественное нарушение (лучше сказать расширение) конвенции, которая нарушается (или расширяется) не отобщенностью от действительности, не художнической условностью, требующей «разгадывания авторских смыслов», но именно потому, что изображение в основе своей естественно, жизненно, нерукотворно — и в том, наоборот, конвенционально.
Эмпирическая реакция как результат столкновения с самозначным нетрактуемым документальным образом отбрасывает на второй план реакции интеллектуального порядка, непосредственно не содержащееся в рамках этого образа - и даже не необходимые.
Если ещё проще, то удивляет и привлекает нас не интеллектуальная насыщенность, скажем, крупного плана листка, который означает тот же самый листок, взятый крупно, — и ничего более того (мыслям негде развернуться, разве что они могут возникнуть из надумываний субъективного переживания, находящегося относительно документального образа извне) — но его видимость, отличная от той, какую мы достигаем собственным не-кинофицированным глазом.
Эмпирическая антиконвенциональность (или расширенная конвенция) в этом смысле возникает не из отстранения глаз и сознания зрителя, — создающим интеллектуальную дистанцию, характерную для традиционных искусств- т. е. по причинам или по закономерностям не антиконвенциональным, а наоборот — из их приближения, из их отождествления и «вживания» в экран, т. е. в рамках все той же эмпирической конвенции.
В общем, отождествление (не уравнивание, — ибо камера видит больше, — но именно отождествление!) зрения человека и зрения камеры, сопряженное с бесконечно возбуждающей эмпирическое внимание способностью последней видеть больше человеческого глаза, достигается именно за счет документальности камеры, а отнюдь не из-за условности искусства, предполагающей интеллектуальные реакции стороннего наблюдателя.
Именно эта документальность и составляет искомую «магию кино».
Весьма показательны в этом отношения свидетельства Кракауэра, которые он в большом объеме приводит: «По утверждению Гофмансталя, для массового зрителя сидеть в кинотеатре и смотреть фильм — это примерно все равно, что «лететь по воздуху с дьяволом Асмодеем, срывающим крыши со всех домов, обнажающим тайны чужих жизней». Иначе говоря, он имеет в виду, что кино предлагает жизнь в ее неисчерпаемом богатстве тому зрителю, который такой жизни лишен. И он сравнивает сны, показываемые на экране, со «сверкающим, вечно вертящимся колесом жизни». Высказывания, подтверждающие оба его предположения — что жажда «настоящей» жизни есть явление широко распространенное и что кино на редкость приспособлено для ее удовлетворения, — проходят красной нитью сквозь всю историю кино. Еще в 1919 году один венский критик писал, что в кино мы ощущаем «пульсацию самой жизни… и предаемся ее потрясающе щедрому изобилию, несравненно превосходящему границы нашего воображения». В 1930 году французский писатель Боклер, превознося кинематограф за то, что в нем так же, как в сновидении, нам доступна вся вселенная, приводит слова, услышанные им однажды в кинотеатре от незнакомого человека: «Кино дорого мне не меньше жизни». Эту фразу можно было бы предпослать в виде эпиграфа докторской диссертации Вольфганга Вильхельма на тему «О возвышающем действии кино», которую он написал на материале опроса немецких кинозрителей и защитил в 1940 году. Вильхельм использовал в ней данные анкет, заполненных двадцатью студентами и преподавателями университета, а также записи двадцати трех пространных интервью, взятых у представителей различных профессиональных и возрастных групп… Вот образцы ответов, цитируемых в диссертации Вильхельма:
«Фильм больше похож на жизнь, чем театр. В театре я смотрю произведение искусства, которое и выглядит как-то искусственно. А после просмотра фильма у меня такое чувство, будто я побывала в гуще жизни» (домашняя хозяйка).
«Каждому, в конце концов, хочется что-то получить от жизни» (молодой рабочий).
«Хороший фильм помогает соприкоснуться с людьми и жизнью» (медсестра).
«Чем менее интересны мои знакомые, тем чаще я хожу в кино» (бизнесмен).
«Подчас меня гонит в кино какой-то голод по людям» (студент)»[42].
«Магия кино» — это не сон наяву, а явь наяву, жизнь, увиденная заново, умноженная расширяющей человеческое зрение камерой, способной зрительно охватить явления подвижной действительности, не доступные глазу человека.
И в этом также заключается «магическое» свойство кино, провоцирующее восхищение, удивляющее и поражающее воображение невиданными вне камеры формами и гранями реальной жизни.
Свойство кино, удивляющее именно потому, что формы и грани эти — жизненны.
Теперь, как нам кажется, оправданным будет решение завершить критику позиций Марины Голдовской.
В качестве очередного доказательства заблуждений, развенчанных нами выше, режиссер пишет следующее: «Первые кинозрители восприняли увиденное лишь как «живую фотографию», как новое техническое открытие, позволившее, наконец, после долгих экспериментов многих изобретателей в разных уголках мира фиксировать на экране движение… Даже сами изобретатели кино — братья Люмьеры — считали свое детище лишь технической "игрушкой"…»[43] Точно в таких же формулировках некогда заблуждались и мы[44]…
Разберемся по порядку.
Вот что пишет насчет первых кинозрителей, воспринявших увиденное «лишь как живую фотографию», Кракауэр: «Современники хвалили фильмы Люмьера за те самые качества, которые особенно подчеркивались пророками и провозвестниками кинематографа. Во всех отзывах о Люмьере непременно и излишне восторженно упоминался «трепет листьев на ветру». Парижский журналист Анри де Парвиль, которому принадлежит это образное выражение, определил главную тему Люмьера словами: «природа, застигнутая врасплох». Другие указывали на пользу, которую сможет извлечь из нового изобретения Люмьера наука. В Америке реализм кинокамеры взял верх над кинетоскопом Эдисона, показывавшим инсценировки»[45].
Первые кинозрители восхитились отнюдь не простым движением, но именно движением жизни. К кинематографу не все относились как к простой технической «игрушке», но как к удивительному механизму, расширяющему человеческое зрение.
Кракауэр отмечает, что «всем хотелось получить аппарат, который запечатлевал бы самые пустячные события окружающего нас мира — уличные сцены, так часто привлекающие толпу, стихийные движения которой чем-то напоминают движения волн или листьев. В достопамятном высказывании сэра Джона Гершеля, опубликованном еще до появления моментальной фотографии, он не только предвидел основные характеристики кинокамеры, но и предопределил ее и поныне актуальные задачи: «…живая и точная репродукция всего, что происходит в реальной жизни, — баталий, диспутов, публичных торжеств, кулачных расправ, репродукция, которая будет передаваться из рук в руки каждому следующему поколению, вплоть до самого отдаленного». И Дюкос дю Корон и другие провозвестники кинематографа видели в своих мечтах то, что мы теперь называем кинохроникой и документальным кино — то есть фильмы, посвященные событиям действительности. Настойчивое подчеркивание летописного назначения фильмов сопровождалось надеждами, что они помогут нам увидеть движения, не воспринимаемые в нормальных условиях или не воспроизводимые иными средствами — такие, как мгновенные трансформации материи, медленный рост растений и т. п.»[46]
Повторимся, во главе угла стояло именно восхищение красотой жизненного движения, достигнутой расширяющей возможности человеческого зрения камерой — ее собственным зрением. Восхищение, отражающее, как писал Балаш, рождение нового эстетического принципа, преодолевающего в силу жизненности изображения дистанцию между экраном и зрителем.
Отсюда же, к слову сказать, явление фотогении Деллюка (вспомним, как он восхищался хроникой), которая заключается в следующем: «Красота… выявляется фотографией, а не создается заново». Тайна фотогении, по Деллюку, заключается в «максимальном проникновении в предмет»[47], а отнюдь не в конструировании его.
Теперь что касается отношения Люмьеров к своему собственному изобретению. Несомненно, будучи фабрикантами, они согласовывали свое детище с массовым (читай, коммерческим) интересом: отсюда, к примеру, их постановочные и фокуснические ленты.
Однако было и иное.
Об этом пишет киновед Галина Прожико: «Луи Люмьер предполагал, что его аппарат создан для регистрации жизни, для фиксации свободного движения природы. И он не желал видеть в кино что-либо иное. Это было первое кредо документалиста. Эта доктрина так врезалась в сознание его операторов, что сорок лет спустя один из них, Феликс Месгиш, писал в своей книге «Вертя ручку»: «На мой взгляд, братья Люмьер правильно определили область кино. Для изучения человеческого сердца достаточно романа и театра. Кино — это динамика жизни и природы во всех ее проявлениях, это толпа и ее волнения. Все, в чем есть движение, относится к кино. Его объектив открыт на мир». «Открыть объектив на мир» — таков был единственный девиз, которому следовали операторы фирмы Люмьер: Промио, Месгиш и др.»[48]
(Кстати, эту же цитату Месгиша употребляет и Голдовская).
Что она, эта цитата, если поразмыслить, означает для нас? Люмьеры, сами некогда фотографы, прекрасно осознавали ценность и значение кинематографического запечатления, заключающееся в том, что камера способна заново открыть мир — ЖИЗНЬ — для человека! Суждение такими возвышенными категориями не укладывается в примитивное определение, предложенное Голдовской.
Наконец, само понятие «живая фотография» содержит в себе искомое значение кинематографии — движения жизни, явленной в новом относительно человеческого глаза качестве.
Теперь, последовательно разобравшись в сущности формулировки «магия кино», попутно развенчав некоторые заблуждения, с этой формулировкой связанные, следует обратиться ко второму, не менее важному вопросу.
Мы выяснили, что формулировка «магия кино» в полной мере раскрывается именно в рамках документализма, а следовательно, она — эта «магия» — наиболее достижима в пределах подлинного кинематографа — документально-хроникального кино, существующего только и исключительно в рамках закономерностей киноаппарата.
Однако мы также писали в самом начале, что это понятие в результате исторических хитросплетений оказалось тесно связанным с игровым фильмом. Именно относительно него — как это не парадоксально в свете изложенного суждения, — чаще всего приходится слышать о некоей «магии кинематографа».
ИНЕРЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОСТИ
Прежде всего, разберемся с характеристиками игрового фильма.
Игровой фильм, как мы уже неоднократно заявляли, суть воплощение синтетического единства искусств — gesamtkunstwerk, снятый на камеру. Во главе угла игрового фильма стоит художественное мироощущение автора-творца, его фантазия, его идея, требующая соответственно рукотворных, обусловленных авторской сверхзадачей форм искусства, которые и определяют методологический принцип создания игровизированной ленты, закономерности ее внутреннего существования как произведения — ее природу.
Без заранее сформулированной мысли и, с другой стороны, без организации пространства перед объективом и действия самого объектива в ее ключе, выражение и считывание зрителем авторского художнического «Я», авторской идеи оказывается невозможно (за неимением самой этой идеи и соответственно форм ее воплощения), ибо невозможен в итоге и сам игровой фильм как конечное, содержащее в себе законченную композицию (систему символических означающих компонентов) произведение.
Если говорить еще проще, то наличие авторского начала требует использования податливых его руке считываемых форм, нацеленных на интерпретацию или переработку действительности в нужном автору (и доступном для считывания зрителю) ключе. Отсюда собственно и явление художественного качества, — «как искусство» — определяющего первоочередную ориентацию режиссера на иные художества, адекватные его требующей рукотворности задаче.
В общем, отсюда первенствующее положение сценария — литературной основы — и актерского перформанса — театра перед объективом камеры. Они слагают символический фундамент игрового фильма, определяют характер или метод дальнейшего употребления киноформ, которые притом возникают в согласии с логикой живописи, а также принцип зрительского декодирования последних.
Игровой фильм концентрируется вокруг того, «что говорят и делают актеры»[49], воплощающие под жестким контролем режиссера его текстуальную «мечту», идею, первоначально и иносказательно сформулированную в сценарии.
Конечно, сценарист (которого некогда называли автором) и режиссер могут быть представлены в двух лицах, однако для создания фильма первичный сценарий в этом случае неизбежно претерпевает переработку режиссером в нужном ему — его видению — направлении. В общем, главенствующее положение авторского Слова, литературы эта частность не изменяет — всевластие режиссера-автора в игровом фильме неизменно, как неизменна его мысль, получающая первичное выражение в символических текстуальных конструкциях нарратива.
В конце концов, как часто приходится слышать о недовольстве сценаристов режиссерской рукой, переписывающей их замысел на свой лад!
Даже если режиссер делает то, чего не хочет (к примеру, заставили что-то переделать продюсеры), то он все равно будет воплощать некоторый текст, некоторую мысль или идею — пусть даже и продюсерскую.
То, «что говорят и делают актеры», составляет собственно иносказательный нарратив, символизирующий авторскую идею, в зависимости от которого производится формальное решение фильма — употребление тех или иных киноформ, приобретающих значение и выразительность в рамках литературного и театрального костяка игрового фильма — в рамках авторской сверхзадачи, символизированной в тексте сюжета, а затем - в композиции форм, составляющих само конечное произведение как таковое.
На экране возникает не сама мысль, идея, а лишь намек на нее, отражающий нарратив, развитие сюжета, в котором изначально и воплощается определенная авторская мысль.
Намек этот возникает в переносе текстуальных знаков и значений в результате развития общего действия, спровоцированного идеей, сформулированной в тексте сюжета, на изображение, которое само по себе не означает ничего из того, что на нем не изображено. Изображение буквально оказывается придавленным текстом.
Без текста — нарративного контекста, сюжета и т. д. — значение, а значит, и качество изображения для зрителя будет неизвестно. С другой стороны, автор согласует употребление киноформ с тем сюжетом, который он хочет воплотить, в котором первоначально и выражена в иносказательных символических формах (сюжетных перипетиях, характерах персонажей, логике их взаимодействия и т. д.) определенная идеальная авторская сверхзадача, требующая своего воплощения на экране.
В рамках нарратива, авторской сверхзадачи, повторимся, и осуществляется употребление киноформ: решение или композиция отдельно взятого кадра, монтажная структура и т. д. — все это возникает из необходимости раскрытия нарративного движения, сюжета, аккумулирующего в себе авторскую мысль; возникает и считывается зрителем в его контексте.
В общем, навязанный кинематографу нарратив заковывает игровой фильм, снятый на натуре или в павильоне, подчиняя всевозможные кадры-детали и натурные монтажные единицы, тянущиеся к многозначности, возникающей из всегда образной документальной камеры, авторскому замыслу, обобщенному в сценарии и воплощенному актерским перформансом.
Такое положение дел «предполагает существование замкнутого мира, в котором явления природы соответствуют судьбам людей, что несовместимо с реализмом кинокамеры, склонной к отображению непрерывности физического бытия»[50], — считал Зигфрид Кракауэр.
Об этом мы подробнее говорили в цикле статей, посвященном документальному образу, а потому развивать уже некогда озвученное суждение мы не станем. В нашем случае важно только указать на то, что игровой фильм, явившейся результатом подчинения кино другим художествам, обезличил кинематограф, заместил его собственное лицо физиономией искусства.
То же, впрочем, происходит и в экспериментальном, авангардистском «кино», которое, в равной степени подченное художническим исканиям автора, всячески стремится подражать изобразительному искусству, музыкальному ритму и т. д.
Такие авторы-авангардисты, чье употребление выразительных средств продиктовано не видимой действительностью, фиксируемой буквальной камерой, а собственным авторским концептом, «как бы они ни избегали типичного для их предшественников стилевого и тематического подражания живописи… все же стремятся создавать художественные произведения; на них… мы видим то, что вполне можно увидеть и на картинах абстракционистов или сюрреалистов. И больше того, они, как и прежние поклонники красивости и живописности, готовы пренебречь спецификой…» кинематографа, как справедливо отмечал это Кракауэр. Наконец, «то, что они делают, в лучшем случае производит впечатление сфотографированной живописи, обогащенной измерением времени, в особенности в тех случаях, когда абстракциям отдается явное предпочтение перед открытиями кинокамеры»[51].
Стремление автора сложить на экране свой художнический идеальный мир, нуждающийся в других искусствах для своего воплощения, необходимо накладывает свои требования на киноформы — требования искусства.
Так, повторимся, происходит с экспериментальным фильмом, для которого характерно подчинение камеры живописи или музыкальному ритму, так же происходит и с фильмом игровым, опирающемся на литературу и театр.
Кажется, именно этим объясняется то, что говорила Марина Голдовская насчет развития художественных навыков кинооператоров в игровом кино: «Кинооператоры пристально вглядывались в живописные полотна, стараясь научиться строить на экране столь же композиционно законченные и гармоничные кадры. Когда же появились осветительные приборы, позволившие управлять светом, добиваться разнообразных эффектов, естественным был и следующий шаг: научиться передавать на пленке все богатство тональных соотношений и градаций, создавать световую лепку фигур по аналогии с опытом изобразительного искусства».
А также: «В освоении живописности кадра наиболее близкими для операторов были изобразительное искусство и фотография: изучение полотен мастеров немало способствовало становлению и совершенствованию операторской профессии. Об этом свидетельствуют признания самих операторов, и их фильмы, и газетные публикации тех лет, сохранившие впечатление очевидцев от просмотренных фильмов. «Снимки «сценированы» по рисункам профессоров исторической живописи Васнецова и Маковского», — сообщил журнал «Синема-фоно» о картине «Песня про купца Калашникова». «Фильмы «Оборона Царицына» и «1812 год» оживили на экране полотна Верещагина (серия «Наполеон в России»)»[52].
Подчинение кинопроцесса логике традиционных искусств в случае игрового фильма оказывается, как мы старались это показать выше, онтологически неизбежным.
Его «язык» действительно формировался под напором достижений «изобразительного искусства, литературы, музыки, вбирал их в себя, что безусловно способствовало быстроте его формирования»[53].
То, что Голдовская говорит о кино вообще — и тем продолжает эклектичную традицию теоретиков прошлого по универсализации его понимания — следует отнести только и именно на счет игрового фильма (к нему мы также относим экспериментальные ленты, основанные на «игре» художественных форм), кинематографическая выразительность которого не имеет собственно кинематографической самостоятельности (и в этих обстоятельствах не может иметь).
(То же, впрочем, характерно и для игровизированного спекулятивного или авторского «документального» фильма, в равной степени подчиненного художническим задачам автора).
Совмещая в себе различные искусства, только сфотографированные на камеру, игровой фильм, тем самым, осуществляется по законам искусства вообще.
Фильм, аккумулирующий в себе пусть и многогранную (в силу множественности используемых искусств, слагающих в своем множестве мир игровой ленты), но все же художественную условность, — свидетельствующую о герметичности и замкнутости игрового произведения, действующего по законам авторской мысли, по законам искусства как творческой интерпретации действительности, — необходимо создает дистанцию между зрителем и экраном, требует отстранения первого от последнего — преимущественно и исключительно интеллектуального напряжения.
Однако откуда в таком случае стремление у различного рода критиков всюду включать в свои рецензии на игровые фильмы понятие «магия кино», т. е. понятие, имеющее, как мы старались это показать в предшествующей главе, вполне определенное документалистское содержание? Почему они — эти критики — доверились экрану? Неужели все дело в условности мира игрового фильма?
Мы выяснили, что условность, создающая дистанцию между произведением традиционных искусств и тем, кто его воспринимает, не может служить основанием для «магии кино», которая эту самую дистанцию должна преодолевать. Источником «магии кино», утверждающей действительную конвенцию зрителя и экрана, мы определили природную документальность кинематографа, возникающую из всегда документальной камеры.
Мы также в предшествующей главе неоднократно указывали в тон теоретикам, которых упоминали, на онтологическую искусственность (читай, условность) игрового фильма.
Игровой фильм, действующий по законам традиционных искусств, в свете вышеизложенного суждения, следовательно, неизбежно должен создавать дистанцию между зрителем и экраном, характерную для художеств, а значит, он не может обладать «магией кино», ибо согласуется не с природой кинематографа, а с художественными закономерностями.
Если бы все было так легко, на этом следовало бы и закончить наше исследование, ибо вывод, изложенный выше, действителен и справедлив. Однако все гораздо сложнее, хотя и не отменяет уже озвученного вывода.
Причиной этой сложности служит непреложный факт — наличие кинокамеры, которая необходима для любого фильма как именно фильма. И в том числе для фильма игрового.
Несомненно, все игровые фильмы, воплощающие авторскую идеальную «мечту», мысль, так или иначе условны. Большинство игровых фильмов изобилует различными условностями: вроде таких, где главный герой какого-нибудь боевика спокойно переносит множественное пулевое ранение.
Однако эти условности напрямую не связаны с работой кинокамеры, без которой, повторимся, никакой фильм невозможен.
Условность проистекает не из того, что делает камера, а из иносказательно сформулированной авторской идеи, выраженной в нарративе, в сюжете, который камера только обслуживает, не изменяясь при этом по своей сути.
Именно сюжет, реализуемый такими же условными по своей природе актерами-персонажами, и составляет основание для внешней и внутренней дистанции между зрителем и экраном.
Иначе говоря, литература и театр — та самая «тирания слова», которой боялся Клер и которая неизбежно утверждается в любом игровом фильме, — формируют фундамент игрового фильма, следовательно, обусловливают явление условности, а за ней и утверждение дистанции.
Однако чтобы фильм как фильм, как продукт работы кинокамеры вообще возник одних только сюжета и актеров недостаточно. В ином случае получился бы не игровой фильм, а, например, литературный роман, или какая-нибудь театральная пьеса.
Условную природу игрового фильма осложняет необходимое присутствие камеры, без которой фильм невозможен.
Камера, могущая взаимодействовать только с видимой физической действительностью, только с действительно существующем, — будучи потому всегда и неизменно документальной, — облачает условную идею, «мечту» в «вещные», эмпирически постигаемые формы.
«Оживление» условной «мечты» (сюжет, нарратив, воспроизведенный актерами), которая сама по себе утверждает дистанцию между зрителем и произведением искусства, воплощение ее в физических зримых формах эту дистанцию, как мы уже писали, наоборот, преодолевает.
Для любого игрового фильма — чтобы стать собственно фильмом — необходима камера. Безусловно, ее работа подчинена нарративной задаче; она обслуживает условный литературный сюжет, отраженный в условном же актерском перформансе. И потому работа камеры не изменяет онтологической сущности игрового фильма как авторской условной «мечты», как единства искусств, как gesamtkunstwerk`а, в котором первенствующее значение имеют литература, театр и т. д., — и лишь затем только следует реализация их слияния камерой.
Однако неизменяемые свойства самой камеры, которая может работать только с видимыми физическими объектами, с объектами действительно существующими, накладывают свой отпечаток на условный игровой фильм, видоизменяя характер его переживания зрителем.
Камера остается самой собой — буквальным оптическим механизмом, запечатлевающим видимую физическую действительность, видящим только то, что действительно находится перед ним и ничего из того, что перед ним нет или ничего из того, что от этого «действительного нахождения» отвлеченно.
Она остается самой собой даже и тогда, когда изображение — кадры — получают различные зримые искажения, претендующие на художественную трактовку по аналогии с методологией изобразительного искусства (например, множественная экспозиция).
Метаморфозы видимого изображения, как правило, происходят не из самого акта зрения камеры (если она, конечно, не сломана), не в самом зрении камеры, но на уже готовом изображении, которое используется корректорами, монтажерами или самим режиссером как холст для создания различных эффектов.
В этом смысле полученный кадр становится агентом не кинематографического, а художественного процесса, аналогичного процессу работы художника с кистью, для которого характерны свои сугубо художественные же закономерности и требования. К камере все это имеет лишь косвенное (наличие кадра) отношение.
Так, именно после съемки, на монтажном столе Мельес осуществлял создание своих «чудес» — экспериментировал с готовым изображением, не меняя при этом принципа работы камеры, которая, если этот принцип изменить, перестанет быть самой собой, перестанет снимать видимую действительность и, следовательно, в результате ее работы возникнет что угодно, но точно не фильм, обязательно требующий камеры и ее возможностей.
В конце концов, чтобы изменить полученный кадр необходимо этот кадр — всегда буквальный и документальный — получить!
Тот же принцип сохранился и сегодня в случае с компьютерной графикой, возникающей не в самом объективе, а в процессе добавления графики в момент постпроизводства, постпродакшна.
Камера же, повторимся, остается самой собой. А потому использование ее, необходимое для создания фильма как именно фильма, неизбежно видоизменяет характер зрительского переживания даже игрового экрана.
Прежде всего, разберемся с характеристиками игрового фильма.
Игровой фильм, как мы уже неоднократно заявляли, суть воплощение синтетического единства искусств — gesamtkunstwerk, снятый на камеру. Во главе угла игрового фильма стоит художественное мироощущение автора-творца, его фантазия, его идея, требующая соответственно рукотворных, обусловленных авторской сверхзадачей форм искусства, которые и определяют методологический принцип создания игровизированной ленты, закономерности ее внутреннего существования как произведения — ее природу.
Без заранее сформулированной мысли и, с другой стороны, без организации пространства перед объективом и действия самого объектива в ее ключе, выражение и считывание зрителем авторского художнического «Я», авторской идеи оказывается невозможно (за неимением самой этой идеи и соответственно форм ее воплощения), ибо невозможен в итоге и сам игровой фильм как конечное, содержащее в себе законченную композицию (систему символических означающих компонентов) произведение.
Если говорить еще проще, то наличие авторского начала требует использования податливых его руке считываемых форм, нацеленных на интерпретацию или переработку действительности в нужном автору (и доступном для считывания зрителю) ключе. Отсюда собственно и явление художественного качества, — «как искусство» — определяющего первоочередную ориентацию режиссера на иные художества, адекватные его требующей рукотворности задаче.
В общем, отсюда первенствующее положение сценария — литературной основы — и актерского перформанса — театра перед объективом камеры. Они слагают символический фундамент игрового фильма, определяют характер или метод дальнейшего употребления киноформ, которые притом возникают в согласии с логикой живописи, а также принцип зрительского декодирования последних.
Игровой фильм концентрируется вокруг того, «что говорят и делают актеры»[49], воплощающие под жестким контролем режиссера его текстуальную «мечту», идею, первоначально и иносказательно сформулированную в сценарии.
Конечно, сценарист (которого некогда называли автором) и режиссер могут быть представлены в двух лицах, однако для создания фильма первичный сценарий в этом случае неизбежно претерпевает переработку режиссером в нужном ему — его видению — направлении. В общем, главенствующее положение авторского Слова, литературы эта частность не изменяет — всевластие режиссера-автора в игровом фильме неизменно, как неизменна его мысль, получающая первичное выражение в символических текстуальных конструкциях нарратива.
В конце концов, как часто приходится слышать о недовольстве сценаристов режиссерской рукой, переписывающей их замысел на свой лад!
Даже если режиссер делает то, чего не хочет (к примеру, заставили что-то переделать продюсеры), то он все равно будет воплощать некоторый текст, некоторую мысль или идею — пусть даже и продюсерскую.
То, «что говорят и делают актеры», составляет собственно иносказательный нарратив, символизирующий авторскую идею, в зависимости от которого производится формальное решение фильма — употребление тех или иных киноформ, приобретающих значение и выразительность в рамках литературного и театрального костяка игрового фильма — в рамках авторской сверхзадачи, символизированной в тексте сюжета, а затем - в композиции форм, составляющих само конечное произведение как таковое.
На экране возникает не сама мысль, идея, а лишь намек на нее, отражающий нарратив, развитие сюжета, в котором изначально и воплощается определенная авторская мысль.
Намек этот возникает в переносе текстуальных знаков и значений в результате развития общего действия, спровоцированного идеей, сформулированной в тексте сюжета, на изображение, которое само по себе не означает ничего из того, что на нем не изображено. Изображение буквально оказывается придавленным текстом.
Без текста — нарративного контекста, сюжета и т. д. — значение, а значит, и качество изображения для зрителя будет неизвестно. С другой стороны, автор согласует употребление киноформ с тем сюжетом, который он хочет воплотить, в котором первоначально и выражена в иносказательных символических формах (сюжетных перипетиях, характерах персонажей, логике их взаимодействия и т. д.) определенная идеальная авторская сверхзадача, требующая своего воплощения на экране.
В рамках нарратива, авторской сверхзадачи, повторимся, и осуществляется употребление киноформ: решение или композиция отдельно взятого кадра, монтажная структура и т. д. — все это возникает из необходимости раскрытия нарративного движения, сюжета, аккумулирующего в себе авторскую мысль; возникает и считывается зрителем в его контексте.
В общем, навязанный кинематографу нарратив заковывает игровой фильм, снятый на натуре или в павильоне, подчиняя всевозможные кадры-детали и натурные монтажные единицы, тянущиеся к многозначности, возникающей из всегда образной документальной камеры, авторскому замыслу, обобщенному в сценарии и воплощенному актерским перформансом.
Такое положение дел «предполагает существование замкнутого мира, в котором явления природы соответствуют судьбам людей, что несовместимо с реализмом кинокамеры, склонной к отображению непрерывности физического бытия»[50], — считал Зигфрид Кракауэр.
Об этом мы подробнее говорили в цикле статей, посвященном документальному образу, а потому развивать уже некогда озвученное суждение мы не станем. В нашем случае важно только указать на то, что игровой фильм, явившейся результатом подчинения кино другим художествам, обезличил кинематограф, заместил его собственное лицо физиономией искусства.
То же, впрочем, происходит и в экспериментальном, авангардистском «кино», которое, в равной степени подченное художническим исканиям автора, всячески стремится подражать изобразительному искусству, музыкальному ритму и т. д.
Такие авторы-авангардисты, чье употребление выразительных средств продиктовано не видимой действительностью, фиксируемой буквальной камерой, а собственным авторским концептом, «как бы они ни избегали типичного для их предшественников стилевого и тематического подражания живописи… все же стремятся создавать художественные произведения; на них… мы видим то, что вполне можно увидеть и на картинах абстракционистов или сюрреалистов. И больше того, они, как и прежние поклонники красивости и живописности, готовы пренебречь спецификой…» кинематографа, как справедливо отмечал это Кракауэр. Наконец, «то, что они делают, в лучшем случае производит впечатление сфотографированной живописи, обогащенной измерением времени, в особенности в тех случаях, когда абстракциям отдается явное предпочтение перед открытиями кинокамеры»[51].
Стремление автора сложить на экране свой художнический идеальный мир, нуждающийся в других искусствах для своего воплощения, необходимо накладывает свои требования на киноформы — требования искусства.
Так, повторимся, происходит с экспериментальным фильмом, для которого характерно подчинение камеры живописи или музыкальному ритму, так же происходит и с фильмом игровым, опирающемся на литературу и театр.
Кажется, именно этим объясняется то, что говорила Марина Голдовская насчет развития художественных навыков кинооператоров в игровом кино: «Кинооператоры пристально вглядывались в живописные полотна, стараясь научиться строить на экране столь же композиционно законченные и гармоничные кадры. Когда же появились осветительные приборы, позволившие управлять светом, добиваться разнообразных эффектов, естественным был и следующий шаг: научиться передавать на пленке все богатство тональных соотношений и градаций, создавать световую лепку фигур по аналогии с опытом изобразительного искусства».
А также: «В освоении живописности кадра наиболее близкими для операторов были изобразительное искусство и фотография: изучение полотен мастеров немало способствовало становлению и совершенствованию операторской профессии. Об этом свидетельствуют признания самих операторов, и их фильмы, и газетные публикации тех лет, сохранившие впечатление очевидцев от просмотренных фильмов. «Снимки «сценированы» по рисункам профессоров исторической живописи Васнецова и Маковского», — сообщил журнал «Синема-фоно» о картине «Песня про купца Калашникова». «Фильмы «Оборона Царицына» и «1812 год» оживили на экране полотна Верещагина (серия «Наполеон в России»)»[52].
Подчинение кинопроцесса логике традиционных искусств в случае игрового фильма оказывается, как мы старались это показать выше, онтологически неизбежным.
Его «язык» действительно формировался под напором достижений «изобразительного искусства, литературы, музыки, вбирал их в себя, что безусловно способствовало быстроте его формирования»[53].
То, что Голдовская говорит о кино вообще — и тем продолжает эклектичную традицию теоретиков прошлого по универсализации его понимания — следует отнести только и именно на счет игрового фильма (к нему мы также относим экспериментальные ленты, основанные на «игре» художественных форм), кинематографическая выразительность которого не имеет собственно кинематографической самостоятельности (и в этих обстоятельствах не может иметь).
(То же, впрочем, характерно и для игровизированного спекулятивного или авторского «документального» фильма, в равной степени подчиненного художническим задачам автора).
Совмещая в себе различные искусства, только сфотографированные на камеру, игровой фильм, тем самым, осуществляется по законам искусства вообще.
Фильм, аккумулирующий в себе пусть и многогранную (в силу множественности используемых искусств, слагающих в своем множестве мир игровой ленты), но все же художественную условность, — свидетельствующую о герметичности и замкнутости игрового произведения, действующего по законам авторской мысли, по законам искусства как творческой интерпретации действительности, — необходимо создает дистанцию между зрителем и экраном, требует отстранения первого от последнего — преимущественно и исключительно интеллектуального напряжения.
Однако откуда в таком случае стремление у различного рода критиков всюду включать в свои рецензии на игровые фильмы понятие «магия кино», т. е. понятие, имеющее, как мы старались это показать в предшествующей главе, вполне определенное документалистское содержание? Почему они — эти критики — доверились экрану? Неужели все дело в условности мира игрового фильма?
Мы выяснили, что условность, создающая дистанцию между произведением традиционных искусств и тем, кто его воспринимает, не может служить основанием для «магии кино», которая эту самую дистанцию должна преодолевать. Источником «магии кино», утверждающей действительную конвенцию зрителя и экрана, мы определили природную документальность кинематографа, возникающую из всегда документальной камеры.
Мы также в предшествующей главе неоднократно указывали в тон теоретикам, которых упоминали, на онтологическую искусственность (читай, условность) игрового фильма.
Игровой фильм, действующий по законам традиционных искусств, в свете вышеизложенного суждения, следовательно, неизбежно должен создавать дистанцию между зрителем и экраном, характерную для художеств, а значит, он не может обладать «магией кино», ибо согласуется не с природой кинематографа, а с художественными закономерностями.
Если бы все было так легко, на этом следовало бы и закончить наше исследование, ибо вывод, изложенный выше, действителен и справедлив. Однако все гораздо сложнее, хотя и не отменяет уже озвученного вывода.
Причиной этой сложности служит непреложный факт — наличие кинокамеры, которая необходима для любого фильма как именно фильма. И в том числе для фильма игрового.
Несомненно, все игровые фильмы, воплощающие авторскую идеальную «мечту», мысль, так или иначе условны. Большинство игровых фильмов изобилует различными условностями: вроде таких, где главный герой какого-нибудь боевика спокойно переносит множественное пулевое ранение.
Однако эти условности напрямую не связаны с работой кинокамеры, без которой, повторимся, никакой фильм невозможен.
Условность проистекает не из того, что делает камера, а из иносказательно сформулированной авторской идеи, выраженной в нарративе, в сюжете, который камера только обслуживает, не изменяясь при этом по своей сути.
Именно сюжет, реализуемый такими же условными по своей природе актерами-персонажами, и составляет основание для внешней и внутренней дистанции между зрителем и экраном.
Иначе говоря, литература и театр — та самая «тирания слова», которой боялся Клер и которая неизбежно утверждается в любом игровом фильме, — формируют фундамент игрового фильма, следовательно, обусловливают явление условности, а за ней и утверждение дистанции.
Однако чтобы фильм как фильм, как продукт работы кинокамеры вообще возник одних только сюжета и актеров недостаточно. В ином случае получился бы не игровой фильм, а, например, литературный роман, или какая-нибудь театральная пьеса.
Условную природу игрового фильма осложняет необходимое присутствие камеры, без которой фильм невозможен.
Камера, могущая взаимодействовать только с видимой физической действительностью, только с действительно существующем, — будучи потому всегда и неизменно документальной, — облачает условную идею, «мечту» в «вещные», эмпирически постигаемые формы.
«Оживление» условной «мечты» (сюжет, нарратив, воспроизведенный актерами), которая сама по себе утверждает дистанцию между зрителем и произведением искусства, воплощение ее в физических зримых формах эту дистанцию, как мы уже писали, наоборот, преодолевает.
Для любого игрового фильма — чтобы стать собственно фильмом — необходима камера. Безусловно, ее работа подчинена нарративной задаче; она обслуживает условный литературный сюжет, отраженный в условном же актерском перформансе. И потому работа камеры не изменяет онтологической сущности игрового фильма как авторской условной «мечты», как единства искусств, как gesamtkunstwerk`а, в котором первенствующее значение имеют литература, театр и т. д., — и лишь затем только следует реализация их слияния камерой.
Однако неизменяемые свойства самой камеры, которая может работать только с видимыми физическими объектами, с объектами действительно существующими, накладывают свой отпечаток на условный игровой фильм, видоизменяя характер его переживания зрителем.
Камера остается самой собой — буквальным оптическим механизмом, запечатлевающим видимую физическую действительность, видящим только то, что действительно находится перед ним и ничего из того, что перед ним нет или ничего из того, что от этого «действительного нахождения» отвлеченно.
Она остается самой собой даже и тогда, когда изображение — кадры — получают различные зримые искажения, претендующие на художественную трактовку по аналогии с методологией изобразительного искусства (например, множественная экспозиция).
Метаморфозы видимого изображения, как правило, происходят не из самого акта зрения камеры (если она, конечно, не сломана), не в самом зрении камеры, но на уже готовом изображении, которое используется корректорами, монтажерами или самим режиссером как холст для создания различных эффектов.
В этом смысле полученный кадр становится агентом не кинематографического, а художественного процесса, аналогичного процессу работы художника с кистью, для которого характерны свои сугубо художественные же закономерности и требования. К камере все это имеет лишь косвенное (наличие кадра) отношение.
Так, именно после съемки, на монтажном столе Мельес осуществлял создание своих «чудес» — экспериментировал с готовым изображением, не меняя при этом принципа работы камеры, которая, если этот принцип изменить, перестанет быть самой собой, перестанет снимать видимую действительность и, следовательно, в результате ее работы возникнет что угодно, но точно не фильм, обязательно требующий камеры и ее возможностей.
В конце концов, чтобы изменить полученный кадр необходимо этот кадр — всегда буквальный и документальный — получить!
Тот же принцип сохранился и сегодня в случае с компьютерной графикой, возникающей не в самом объективе, а в процессе добавления графики в момент постпроизводства, постпродакшна.
Камера же, повторимся, остается самой собой. А потому использование ее, необходимое для создания фильма как именно фильма, неизбежно видоизменяет характер зрительского переживания даже игрового экрана.
Повторимся, что камера «оживляет» в эмпирически постигаемых формах условную авторскую «мечту», и, тем самым, преодолевает внешнюю дистанцию между зрителем и экраном. Иначе говоря, природная документальность камеры облагораживает «мечту», создает иллюзию ее действительности.
Казалось бы, за преодолением внешней дистанции должно последовать и снятие дистанции внутренней, однако этого, по понятным причинам, — в силу онтологической условности авторской фантазии, — не происходит.
Поскольку игровой фильм у самого своего основания условен (его задача исчерпывается воплощение авторской мысли, интенции, концепции действительности, возникающей из интерпретации реальности), постольку о полноценной реализации документальности камеры, конечно, говорить не приходится.
Эта документальность только проникает с работой камеры в условную авторскую фантазию, как бы возникает в остатке от работы камеры. Этот «остаточный след», видоизменяющий характер переживания условного экрана зрителем, мы называем инерцией документальности.
В общем, все дело в инерции документальности, обеспечивающей жизненным качеством условную авторскую «мечту».
Выходит, если мы и можем говорить о некоей «магии кино» относительно игрового фильма, то точно не потому, что определяет игровой компонент игрового фильма — не по причинам художественного порядка.
Мы можем говорить о «магии кино» только в связи с тем, что основание для этой «магии» кроется во всегда и необходимо документальной камере, которая остается документальной даже и тогда, когда используется не по назначению.
Эксплуатация документальности камеры и определяет доверие игровому фильму, который содержит в себе основания для доверия именно и только потому, что камера документальна.
Ибо «зрительское восприятие… обусловлено спецификой кино — свойственным ему предпочтением природы в ее нетронутом виде», а следовательно все, что создано «приемами кино, подтверждает приоритет физической реальности»[54], как говорил Кракауэр.
Мы верим игровой «мечте» не потому, что она действительна (сюжет, разумеется, в силу своей придуманности онтологически условен), но потому, что она воплощается действительными формами.
Совсем не условная «мечта», не идея или «игра» возбуждали доверие зрителя, его «вживание» в игровой экран, но их овеществленность, их жизненное качество, передаваемое им всегда и неизменно буквальной документальной камерой. Сами того не осознавая, зрители шли за мечтой «ожившей».
Одним только этим моментом опрокидывается тянущееся почти столетие суждение игровиков о том, что именно условность, сама фантазия привлекала зрителей. Отнюдь и нет! Именно факт ее воплощения в конкретных формах — в людях, в физических предметах и т. д. — определял воздействующую силу авторской фантазии на экране.
Повторимся, что благодаря работе камеры, благодаря возникающей инерции документальности происходит снятие внешней дистанции — зритель отождествляет свое зрение в результате предсознательных эмпирических реакций со зрением камеры.
Этот процесс в силу его предсознательности происходит как бы неощутимо для зрителя, автоматически прилагающего свое оптическое зрение к оптическому же зрению камеры.
Автоматизм восприятия результатов работы всегда документальной камеры определяет невыразимость или незаметность для него действия самой этой камеры и, следовательно, обуславливает приобретение «мечтой» большей воздействующей силы.
Раздраженный камерой, расширяющей его эмпирическую конвенцию, зритель быстро фиксирует свое сознание за нарративным движением, которое, будучи идеальной конструкцией, позволяет разрешить эмпирическое напряжение зрения, вцепившегося в экран, который вызывает в нем многочисленные ассоциации, хаотичный мыслительный процесс, умопостигаемым в своей цельной закономерности и последовательности театральным действием.
Именно отсюда берет свое начало подмена понятий, о которой мы говорили в самом начале настоящего текста. В силу того, что экранная «мечта» оказывается на первом плане, зритель, для которого работа камеры остается невыразимой, цепляется именно за то явное, что его впечатлило.
Т.е. происходит подмена причины (кинематографическая специфика) следствием (выразительность форм искусства).
Предвосхищая дальнейшее рассуждение, скажем следующее. Отнюдь не «кино-как-искусство» составляет «магию кино». Но документальность (в случае с игровым фильмом — инерция документальности) обеспечивает ее — этой «магии» — возможность. Документальность обеспечивает доверие «мечте», ее воздействующую силу и экранную (в сравнении с иными вариантами воплощения художнической «мечты») инаковость.
Симптомом того, что именно инерция документальности стоит за выразительностью игровой «мечты», является, на наш взгляд, то, что, когда зрителю не нравится фильм, он первым делом отмечает его искусственность, и лишь затем только содержание, вызвавшее в нем отстранение от этой «мечты» и, как следствие, большее внимание к природе кинематографического запечатления.
Однако об этом мы еще скажем ниже. Вернемся к нашему размышлению.
Такая подмена понятий, как мы говорили, будучи глубоко ложным явлением, имела и имеет до сих пор свое разрушительное воздействие на кинопроцесс.
Разумеется, если зрителя впечатляет игра, значит режиссерам нужно было — дабы сохранить необходимую связь со зрителем, — развиваться именно в этом направлении!
Однако именно здесь обнаружилась ошибочность убеждение игровиков в том, что именно условность составляет «магию кино».
Это убеждение в один момент привела их к методологическому тупику. Таким тупиком были «ожившие рисунки» немецкого киноэкспрессионизма.
Вот что на этот счет пишет Кракауэр и ряд других теоретиков, которых он упоминает: «Очевидно, что фантазии, воплощенные на экране театральными средствами и одновременно с этим притязающие на кинематографическую полноценность, противоречат основному принципу эстетики кино; в них специфика его выразительных средств отвергнута ради целей, для достижения которых они мало пригодны… Другие высказывания о «калигаризме» совпадают с позицией автора настоящей книги. По мнению Кавальканти, немецкий экспрессионистский фильм «устарел, потому что в нем режиссеры пытались использовать камеру несвойственным ей образом. На этот раз кинематограф уходил все дальше и дальше от действительности». Неергаард, сопоставляя дрейеровскую трактовку фантазии в «Вампире» с методами постановки «Калигари», приходит к выводу, что последний не что иное, как «сфотографированный театр». Даже Жан Кокто, видимо под влиянием французского «авангарда», осудил «Калигари» (в 1923 или 1924 году) за мрачные эффекты, рожденные скорее не активностью камеры, а эксцентрическими декорациями…»[55]
«Устаревший» сегодня калигаризм, видно, именно потому и остался только для ценящих искусство зевак-эстетов, что кинематографом никогда и не был. Движение по пути калигаризма определило бы развитие игрового фильма как только и исключительно «сфотографированного театра», могущим быть, конечно, и без камеры — просто театром или просто живописью (экспрессионисты в Германии неплохо справлялись и без киноаппарата). Тогда что бы оставалось делать кинематографистам?!
Развитие кино пошло по иному пути — дальше от условности мечты навстречу документальной камере, без которой кинематограф, а следовательно и его особая «магия» невозможны.
Вспомним, что мы писали на этот счет: «Естественное уравнивание экспериментального авангардизма и документального кино в историческом развитии достигло своего оформления в 50−60-х гг. прошлого века. «Обобщая эти явления, можно сказать, что кинодокументализм в наши дни в целом ряде случаев вновь становится авангардом, действенной, активной силой киноискусства…» — утверждал советский исследователь С. В. Дробашенко. И это весьма справедливая оценка. Достаточно привести ряд примеров. Неореалистическая тенденция в Италии, «новая волна» во Франции (Годар, к примеру, участвовал в художественном объединении имени Дзиги Вертова), специфический кино-процесс в Штатах (вспомним «крестного отца нью-йоркского киноавангарда» Йонаса Мекаса), «Свободное кино» Линдсея Андерсона в Англии, питающееся из фондов для производства экспериментальных фильмов Британского киноинститута, и т. п. Все эти авангардные течения стояли на обогащении игрового кино качествами документализма…»[56]
Об этом же говорит киновед Галина Прожико: «Почти все новации в развитии киноязыка в целом родились благодаря обогащению приемами документальной съемки привычного языка игрового экрана». В качестве иллюстрации этого своего суждения Прожико предлагает следующее суждение насчет «синема-верите» и французской «Новой волны»: «Безусловно, главная цель течения «синема-верите» - раскрытие напряженной внутренней жизни отдельного человека, а потому творческие приемы оказались востребованы не только в документальном кино, но и в игровом. Связано это было ещё и с тем фактом, что многие операторы, составившие стилевой имидж «Новой волны», имели большой опыт работы в документальном кино. Показательный пример оператора Р. Кутара, чьи работы с Годаром и Трюффо, собственно, и определили узнаваемую стилистику «Новой волны». Скажем, повествование в фильме На последнем дыхании представляет собой зрелище, как бы запечатленное документальной камерой... Сам Кутар вспоминал постоянное требование Годара во время съемок: «Проще, как можно проще!»...»[57]
Этот процесс, который весьма приблизительно можно назвать тенденцией к деигровизации игрового фильма (или, если угодно, тенденцией к эйзенштейновской «золотой середине» между игровой и неигровой), продолжается и сегодня.
Достаточно упомянуть триеровскую «Догму», румынскую новую волну, фестивальную «новую искренность» кинематографа…
Вспомним хотя бы Аббаса Киаростами, которым совсем недавно взбурлило киносообщество!
Ощущая неполноценность театрального сюжета, вложенного в большинство игровых фильмов в качестве фундамента, режиссеры испытывали острую необходимость в «оживлении» замкнутого нарративом мира игрового фильма.
Так, Альфред Хичкок некогда заявлял, что в «материале театральной пьесы намного меньше содержания, чем в фильме»[58]. Ему вторил Панофски, который углубил и конкретизировал сказанное Хичкоком следующим образом: «В фильме действие не только не прерывается, но даже усиливается, когда перемещение сцен с одного места на другое… изображают со всеми подробностями в виде настоящих переездов в автомашине по оживленным улицам» и т. д.
В этом же ключе мы обязаны упомянуть и Тарковского, считавшего, что с хроники началось настоящее кино, а также то, что о нем писали. Так, в статье «Истина поэзии» В. Огнев пишет следующее: «В последнее время все чаще раздаются требования конкретной неповторимости реального факта и в игровом кинематографе. Современный художник ищет естественность, бежит от «нищенской символики», еще вчера владевшей умами «поэтического кино». В 1967 году А. Тарковский выступил в «Искусстве кино» со статьей «Запечатленное время», где он привел пример «образа-факта», подсмотренного в жизни, а не домышленного, абстрагированного…»[59]
Иначе говоря, игровики, непосредственно знакомые со своим ремеслом, — с его достоинствами и недостатками, — особенно ощутили нужду в жизненной реальности перед объективом, в том, чтобы заставить «участвовать в действии саму реальную действительность»[60], — как говорил в свое время Эйзенштейн.
С чем связан такой поворот кинопроцесса?
Напомним, что камера, обеспечивая игровому фильму преодоление внешней дистанции между ним и зрителем, никак не влияла на онтологическое существо литературного и театрального костяка самого фильма, существующего по законам традиционных искусств. Воплотив условную «мечту» в эмпирически постигаемых формах кинокамера тем не менее не изменила саму эту «мечту», но только смягчила вследствие инерции документальности дистанцию, которую эта «мечта», будучи идеальной конструкцией, сама по себе создает.
Иначе говоря, в результате сохранения авторской фантазии сохранилась также и внутренняя, духовная, если угодно, интеллектуальная дистанция.
Об этом же пишет Кракауэр: «Впрочем, в театральных фильмах интерес этот проявляется чаще, чем можно было ожидать. Их авторы действительно расширяют сюжет с тем, чтобы он включал в себя «самые замечательные вещи». Это достигается сотней различных путей. Наиболее обычен упомянутый Панофски путь добавления уличных сцен в фильмы, сюжетное действие которых было бы совершенно понятным и в том случае, если бы его персонажи не покидали закрытого помещения. Каждый раз, когда у кинорежиссеров возникает желание «вывести действие из рамок стилизованной постановки (пусть даже эффектной) и придать ему полную естественность», их непреодолимо привлекает улица и места, непосредственно с ней связанные. Вероятно, причины популярности этого приема. нужно искать в контрасте между неинсценированной жизнью улицы и условным сценическим действием»[61].
Решение проблемы внешней дистанции при сохранении дистанции внутренней создает в случае с игровым фильмом онтологически необходимый для него парадокс, без которого игровой фильм существовать не может. Инерция документальности не превратила по своему существу условный игровой фильм в документ, но, повторимся, создала иллюзию его действительности.
Этот парадокс имеет свои последствия для зрителя.
Доверие экрану, доверие «мечте» обеспечило вместе с ее выразительностью также и особое эмпирическое внимание к ней, чувствительность зрительского восприятия. И именно потому, что «мечта» всегда остается по природе своей выдуманной, искусственной, требующей рукотворных махинаций, фокусничества, воплощение «мечты» в конкретных формах усиливает ее онтологическую искусственность относительно зрителя, привыкшего к отождествлению своего зрения со зрением документальной камеры.
Камера буквальна. А потому если перед ее объективом происходит пусть и эмпирически постигаемое, но все же условное действие, то она и увидит ничто иное, как условное действие. Ровно так, как об этом говорил Кавальканти: «Камера воспринимает все настолько буквально, что, покажи ей актеров с костюмами, то она и увидит актеров с костюмами, а не персонажей фильма».
Другое дело, увидит ли эту искусственность зритель, чьи глаза все-таки остаются его собственными, а не превращаются в объектив камеры? На этот вопрос мы ответим позже, а пока вернемся к центральному направлению нашего суждения.
Инерция документальности, присутствующая неизбежно в каждом фильме, для которого необходима камера, усиливающая выразительность авторской выдумки, вместе с тем усиливает также и искусственность видимого действия, что в свою очередь может разрушить внутреннюю конвенцию зрителя и экрана, который по этим самым причинам перестанет верить и внешней иллюзии — т. е. восстановится внешняя дистанция.
Именно поэтому многие сознательные режиссеры-игровики стремились (и во многом продолжают это делать, судя по актуальным тенденциям) разрешить онтологически необходимый парадокс в кинематографическом ключе — расширить герметичный мир своих фантазий, как бы материализовать его, приблизить к миру действительному, физическому, тому, без которого, повторимся, камера, а следовательно, кинематограф и его «магия» невозможны.
Герметичность, «заорганизованность» игрового пространства, неизбежная в условиях необходимости авторского воплощения собственной интенции, способна нарушить конвенцию зрителя и экрана, разуверить зрителя в действительности происходящего и вскрыть, следовательно, всю его искусственность — создать дистанцию, характерную для традиционных искусств.
Казалось бы, за преодолением внешней дистанции должно последовать и снятие дистанции внутренней, однако этого, по понятным причинам, — в силу онтологической условности авторской фантазии, — не происходит.
Поскольку игровой фильм у самого своего основания условен (его задача исчерпывается воплощение авторской мысли, интенции, концепции действительности, возникающей из интерпретации реальности), постольку о полноценной реализации документальности камеры, конечно, говорить не приходится.
Эта документальность только проникает с работой камеры в условную авторскую фантазию, как бы возникает в остатке от работы камеры. Этот «остаточный след», видоизменяющий характер переживания условного экрана зрителем, мы называем инерцией документальности.
В общем, все дело в инерции документальности, обеспечивающей жизненным качеством условную авторскую «мечту».
Выходит, если мы и можем говорить о некоей «магии кино» относительно игрового фильма, то точно не потому, что определяет игровой компонент игрового фильма — не по причинам художественного порядка.
Мы можем говорить о «магии кино» только в связи с тем, что основание для этой «магии» кроется во всегда и необходимо документальной камере, которая остается документальной даже и тогда, когда используется не по назначению.
Эксплуатация документальности камеры и определяет доверие игровому фильму, который содержит в себе основания для доверия именно и только потому, что камера документальна.
Ибо «зрительское восприятие… обусловлено спецификой кино — свойственным ему предпочтением природы в ее нетронутом виде», а следовательно все, что создано «приемами кино, подтверждает приоритет физической реальности»[54], как говорил Кракауэр.
Мы верим игровой «мечте» не потому, что она действительна (сюжет, разумеется, в силу своей придуманности онтологически условен), но потому, что она воплощается действительными формами.
Совсем не условная «мечта», не идея или «игра» возбуждали доверие зрителя, его «вживание» в игровой экран, но их овеществленность, их жизненное качество, передаваемое им всегда и неизменно буквальной документальной камерой. Сами того не осознавая, зрители шли за мечтой «ожившей».
Одним только этим моментом опрокидывается тянущееся почти столетие суждение игровиков о том, что именно условность, сама фантазия привлекала зрителей. Отнюдь и нет! Именно факт ее воплощения в конкретных формах — в людях, в физических предметах и т. д. — определял воздействующую силу авторской фантазии на экране.
Повторимся, что благодаря работе камеры, благодаря возникающей инерции документальности происходит снятие внешней дистанции — зритель отождествляет свое зрение в результате предсознательных эмпирических реакций со зрением камеры.
Этот процесс в силу его предсознательности происходит как бы неощутимо для зрителя, автоматически прилагающего свое оптическое зрение к оптическому же зрению камеры.
Автоматизм восприятия результатов работы всегда документальной камеры определяет невыразимость или незаметность для него действия самой этой камеры и, следовательно, обуславливает приобретение «мечтой» большей воздействующей силы.
Раздраженный камерой, расширяющей его эмпирическую конвенцию, зритель быстро фиксирует свое сознание за нарративным движением, которое, будучи идеальной конструкцией, позволяет разрешить эмпирическое напряжение зрения, вцепившегося в экран, который вызывает в нем многочисленные ассоциации, хаотичный мыслительный процесс, умопостигаемым в своей цельной закономерности и последовательности театральным действием.
Именно отсюда берет свое начало подмена понятий, о которой мы говорили в самом начале настоящего текста. В силу того, что экранная «мечта» оказывается на первом плане, зритель, для которого работа камеры остается невыразимой, цепляется именно за то явное, что его впечатлило.
Т.е. происходит подмена причины (кинематографическая специфика) следствием (выразительность форм искусства).
Предвосхищая дальнейшее рассуждение, скажем следующее. Отнюдь не «кино-как-искусство» составляет «магию кино». Но документальность (в случае с игровым фильмом — инерция документальности) обеспечивает ее — этой «магии» — возможность. Документальность обеспечивает доверие «мечте», ее воздействующую силу и экранную (в сравнении с иными вариантами воплощения художнической «мечты») инаковость.
Симптомом того, что именно инерция документальности стоит за выразительностью игровой «мечты», является, на наш взгляд, то, что, когда зрителю не нравится фильм, он первым делом отмечает его искусственность, и лишь затем только содержание, вызвавшее в нем отстранение от этой «мечты» и, как следствие, большее внимание к природе кинематографического запечатления.
Однако об этом мы еще скажем ниже. Вернемся к нашему размышлению.
Такая подмена понятий, как мы говорили, будучи глубоко ложным явлением, имела и имеет до сих пор свое разрушительное воздействие на кинопроцесс.
Разумеется, если зрителя впечатляет игра, значит режиссерам нужно было — дабы сохранить необходимую связь со зрителем, — развиваться именно в этом направлении!
Однако именно здесь обнаружилась ошибочность убеждение игровиков в том, что именно условность составляет «магию кино».
Это убеждение в один момент привела их к методологическому тупику. Таким тупиком были «ожившие рисунки» немецкого киноэкспрессионизма.
Вот что на этот счет пишет Кракауэр и ряд других теоретиков, которых он упоминает: «Очевидно, что фантазии, воплощенные на экране театральными средствами и одновременно с этим притязающие на кинематографическую полноценность, противоречат основному принципу эстетики кино; в них специфика его выразительных средств отвергнута ради целей, для достижения которых они мало пригодны… Другие высказывания о «калигаризме» совпадают с позицией автора настоящей книги. По мнению Кавальканти, немецкий экспрессионистский фильм «устарел, потому что в нем режиссеры пытались использовать камеру несвойственным ей образом. На этот раз кинематограф уходил все дальше и дальше от действительности». Неергаард, сопоставляя дрейеровскую трактовку фантазии в «Вампире» с методами постановки «Калигари», приходит к выводу, что последний не что иное, как «сфотографированный театр». Даже Жан Кокто, видимо под влиянием французского «авангарда», осудил «Калигари» (в 1923 или 1924 году) за мрачные эффекты, рожденные скорее не активностью камеры, а эксцентрическими декорациями…»[55]
«Устаревший» сегодня калигаризм, видно, именно потому и остался только для ценящих искусство зевак-эстетов, что кинематографом никогда и не был. Движение по пути калигаризма определило бы развитие игрового фильма как только и исключительно «сфотографированного театра», могущим быть, конечно, и без камеры — просто театром или просто живописью (экспрессионисты в Германии неплохо справлялись и без киноаппарата). Тогда что бы оставалось делать кинематографистам?!
Развитие кино пошло по иному пути — дальше от условности мечты навстречу документальной камере, без которой кинематограф, а следовательно и его особая «магия» невозможны.
Вспомним, что мы писали на этот счет: «Естественное уравнивание экспериментального авангардизма и документального кино в историческом развитии достигло своего оформления в 50−60-х гг. прошлого века. «Обобщая эти явления, можно сказать, что кинодокументализм в наши дни в целом ряде случаев вновь становится авангардом, действенной, активной силой киноискусства…» — утверждал советский исследователь С. В. Дробашенко. И это весьма справедливая оценка. Достаточно привести ряд примеров. Неореалистическая тенденция в Италии, «новая волна» во Франции (Годар, к примеру, участвовал в художественном объединении имени Дзиги Вертова), специфический кино-процесс в Штатах (вспомним «крестного отца нью-йоркского киноавангарда» Йонаса Мекаса), «Свободное кино» Линдсея Андерсона в Англии, питающееся из фондов для производства экспериментальных фильмов Британского киноинститута, и т. п. Все эти авангардные течения стояли на обогащении игрового кино качествами документализма…»[56]
Об этом же говорит киновед Галина Прожико: «Почти все новации в развитии киноязыка в целом родились благодаря обогащению приемами документальной съемки привычного языка игрового экрана». В качестве иллюстрации этого своего суждения Прожико предлагает следующее суждение насчет «синема-верите» и французской «Новой волны»: «Безусловно, главная цель течения «синема-верите» - раскрытие напряженной внутренней жизни отдельного человека, а потому творческие приемы оказались востребованы не только в документальном кино, но и в игровом. Связано это было ещё и с тем фактом, что многие операторы, составившие стилевой имидж «Новой волны», имели большой опыт работы в документальном кино. Показательный пример оператора Р. Кутара, чьи работы с Годаром и Трюффо, собственно, и определили узнаваемую стилистику «Новой волны». Скажем, повествование в фильме На последнем дыхании представляет собой зрелище, как бы запечатленное документальной камерой... Сам Кутар вспоминал постоянное требование Годара во время съемок: «Проще, как можно проще!»...»[57]
Этот процесс, который весьма приблизительно можно назвать тенденцией к деигровизации игрового фильма (или, если угодно, тенденцией к эйзенштейновской «золотой середине» между игровой и неигровой), продолжается и сегодня.
Достаточно упомянуть триеровскую «Догму», румынскую новую волну, фестивальную «новую искренность» кинематографа…
Вспомним хотя бы Аббаса Киаростами, которым совсем недавно взбурлило киносообщество!
Ощущая неполноценность театрального сюжета, вложенного в большинство игровых фильмов в качестве фундамента, режиссеры испытывали острую необходимость в «оживлении» замкнутого нарративом мира игрового фильма.
Так, Альфред Хичкок некогда заявлял, что в «материале театральной пьесы намного меньше содержания, чем в фильме»[58]. Ему вторил Панофски, который углубил и конкретизировал сказанное Хичкоком следующим образом: «В фильме действие не только не прерывается, но даже усиливается, когда перемещение сцен с одного места на другое… изображают со всеми подробностями в виде настоящих переездов в автомашине по оживленным улицам» и т. д.
В этом же ключе мы обязаны упомянуть и Тарковского, считавшего, что с хроники началось настоящее кино, а также то, что о нем писали. Так, в статье «Истина поэзии» В. Огнев пишет следующее: «В последнее время все чаще раздаются требования конкретной неповторимости реального факта и в игровом кинематографе. Современный художник ищет естественность, бежит от «нищенской символики», еще вчера владевшей умами «поэтического кино». В 1967 году А. Тарковский выступил в «Искусстве кино» со статьей «Запечатленное время», где он привел пример «образа-факта», подсмотренного в жизни, а не домышленного, абстрагированного…»[59]
Иначе говоря, игровики, непосредственно знакомые со своим ремеслом, — с его достоинствами и недостатками, — особенно ощутили нужду в жизненной реальности перед объективом, в том, чтобы заставить «участвовать в действии саму реальную действительность»[60], — как говорил в свое время Эйзенштейн.
С чем связан такой поворот кинопроцесса?
Напомним, что камера, обеспечивая игровому фильму преодоление внешней дистанции между ним и зрителем, никак не влияла на онтологическое существо литературного и театрального костяка самого фильма, существующего по законам традиционных искусств. Воплотив условную «мечту» в эмпирически постигаемых формах кинокамера тем не менее не изменила саму эту «мечту», но только смягчила вследствие инерции документальности дистанцию, которую эта «мечта», будучи идеальной конструкцией, сама по себе создает.
Иначе говоря, в результате сохранения авторской фантазии сохранилась также и внутренняя, духовная, если угодно, интеллектуальная дистанция.
Об этом же пишет Кракауэр: «Впрочем, в театральных фильмах интерес этот проявляется чаще, чем можно было ожидать. Их авторы действительно расширяют сюжет с тем, чтобы он включал в себя «самые замечательные вещи». Это достигается сотней различных путей. Наиболее обычен упомянутый Панофски путь добавления уличных сцен в фильмы, сюжетное действие которых было бы совершенно понятным и в том случае, если бы его персонажи не покидали закрытого помещения. Каждый раз, когда у кинорежиссеров возникает желание «вывести действие из рамок стилизованной постановки (пусть даже эффектной) и придать ему полную естественность», их непреодолимо привлекает улица и места, непосредственно с ней связанные. Вероятно, причины популярности этого приема. нужно искать в контрасте между неинсценированной жизнью улицы и условным сценическим действием»[61].
Решение проблемы внешней дистанции при сохранении дистанции внутренней создает в случае с игровым фильмом онтологически необходимый для него парадокс, без которого игровой фильм существовать не может. Инерция документальности не превратила по своему существу условный игровой фильм в документ, но, повторимся, создала иллюзию его действительности.
Этот парадокс имеет свои последствия для зрителя.
Доверие экрану, доверие «мечте» обеспечило вместе с ее выразительностью также и особое эмпирическое внимание к ней, чувствительность зрительского восприятия. И именно потому, что «мечта» всегда остается по природе своей выдуманной, искусственной, требующей рукотворных махинаций, фокусничества, воплощение «мечты» в конкретных формах усиливает ее онтологическую искусственность относительно зрителя, привыкшего к отождествлению своего зрения со зрением документальной камеры.
Камера буквальна. А потому если перед ее объективом происходит пусть и эмпирически постигаемое, но все же условное действие, то она и увидит ничто иное, как условное действие. Ровно так, как об этом говорил Кавальканти: «Камера воспринимает все настолько буквально, что, покажи ей актеров с костюмами, то она и увидит актеров с костюмами, а не персонажей фильма».
Другое дело, увидит ли эту искусственность зритель, чьи глаза все-таки остаются его собственными, а не превращаются в объектив камеры? На этот вопрос мы ответим позже, а пока вернемся к центральному направлению нашего суждения.
Инерция документальности, присутствующая неизбежно в каждом фильме, для которого необходима камера, усиливающая выразительность авторской выдумки, вместе с тем усиливает также и искусственность видимого действия, что в свою очередь может разрушить внутреннюю конвенцию зрителя и экрана, который по этим самым причинам перестанет верить и внешней иллюзии — т. е. восстановится внешняя дистанция.
Именно поэтому многие сознательные режиссеры-игровики стремились (и во многом продолжают это делать, судя по актуальным тенденциям) разрешить онтологически необходимый парадокс в кинематографическом ключе — расширить герметичный мир своих фантазий, как бы материализовать его, приблизить к миру действительному, физическому, тому, без которого, повторимся, камера, а следовательно, кинематограф и его «магия» невозможны.
Герметичность, «заорганизованность» игрового пространства, неизбежная в условиях необходимости авторского воплощения собственной интенции, способна нарушить конвенцию зрителя и экрана, разуверить зрителя в действительности происходящего и вскрыть, следовательно, всю его искусственность — создать дистанцию, характерную для традиционных искусств.
Получается ли решить у игровиков необходимый для их ремесла парадокс, потенциально исключающий воздействие игрового фильма как фильма и, с другой стороны, исключающий существование игрового кино как кино?
Полноценное его разрешение в пользу кино — как это мы старались показать на протяжении всего настоящего текста — возможно только в случае с кино документальным. Именно поэтому игровики старательно видоизменяют свои замкнутые фантазийные миры, впуская в них все большую инерцию документальности: размывают строгие нарративные структуры, выходят на натуру, имитируют документальную съемку и т. д.
Однако для того, чтобы этот парадокс был действительно разрешен, необходимо отказаться от игровых форм вообще. Ибо даже небольшая доля авторских спекуляций, как показывает, например, практика «документальщиков»[62], разрушает общее доверие зрителя экрану; он считывает все экранные формы в согласии с чрезвычайно выразительными — на фоне, может и действительно документальных планов, - игровизированными кусками. Считывает и остается в мнении, что ему диктуют или даже пропагандируют в императивном порядке нужные смыслы (современный же зритель особенно чувствителен к экранной пропаганде).
Режиссеры-авторы на то и авторы, что стремятся выразить свое «Я» в некоторых художественных, рукотворных формах. А потому для того, чтобы уйти от игрового фильма, им прежде всего следовало бы оставить свои художнические искания вообще, — а не только сократить их напряжение в рамках фильма инерцией документальности — исключить свое стремящееся к воспроизводству «Я», чего, конечно, случится не могло.
Игровой фильм сохранился, а с ним сохранился и онтологически необходимый для него парадокс кино и искусства.
За этим парадоксом, за столкновением двух взаимоисключающих начал следует также и столкновение зрительских реакций, происходит борьба внутри зрителя, который должен или остаться зрителем, или стать читателем.
Инерция документальности обуславливает конвенцию зрителя и экрана, упрощая или смягчая взаимодействие первого и последнего. Мера присутствия этой инерции обуславливает только меру смягчения, а не полноценное преодоление дистанции.
И вместе с тем она же, «оживляя» авторскую выдумку, провоцирует в зрителе активного читателя, ибо, смягчая своим присутствием внешнюю дистанцию, она тем самым обостряет дистанцию внутренюю, за которой следует восстановление и внешней дистанции.
Такова парадоксальность игрового фильма, стремящегося к постоянному самоисключению: чем больше выдумки, тем более игровой фильм оказывается во власти сторонних искусств, тем более он собственно не кино, но сфотографированный театр (или любое иное искусство), создающий внешнюю и внутреннюю дистанцию зрителя (читателя) и экрана.
Чем больше инерции документальности, тем меньше внешней дистанции и тем острее присутствие даже малейшей искусственности, тем больше дистанции внутренней, и тем, следовательно, больше дистанции внешней.
Полноценное же разрешение этого парадокса, повторимся, возможно только в случае отказа от игрового фильма вообще — т. е. его исключения (документальная кино-вещь).
И в первом, и во втором, и в третьем случаях игровое кино перестает существовать, заменяясь или гезамткунстверком, или документальной кино-вещью.
Зритель, чувствительность которого доведена до предела относительно интеллектуальной реальности авторской «мечты», неизбежно оказывается в положении сознательного читателя, в положении обманутого стороннего наблюдателя.
Именно отсюда и начинается ответ на поставленный выше вопрос о том, способен ли зритель вскрыть искусственность экрана? И при каких условиях эта способность вообще возможна?
Для того, чтобы обмануться, во-первых, сначала нужно поверить, чему собственно и способствует инерция документальности, обуславливающая «магию кино», а во-вторых, быть в таком состоянии, когда эта вера вообще может развеяться.
Вероятность последнего фактора обуславливается условностью «мечты», вынуждающей зрителя становиться читателем авторских символических форм, которым читатель, будучи первоначально зрителем, вообще доверился.
В общем, зритель, становясь читателем, подчиняется идеальным закономерностям условностей игрового фильма, обнаруживает в себе интеллектуальное напряжение исследователя. Исходя из этих идеальных закономерностей, согласуясь с ними, зритель-читатель определяет действенность или недейственность «магии кино» относительно себя.
Ибо все, что происходит на экране, в итоге имеет только символическое значение, означает нечто помимо того, что буквальная камера запечатлела: реальность физическая подменяется в этом случае реальностью умозрительной. Документальный образ, воплощающий чистоту природы кинематографа, подменяется пусть «оживленным», но все же художественным символом[63].
Фильм, во главе которого утверждено не стремление к согласию с природой кино, а идеальность, необходимость наиболее полного выражения авторской условной мечты, предполагает соответственно закономерности идеального порядка, обуславливающие принцип зрительского, или, лучше сказать читательского взаимодействия с ним.
Поскольку авторская мечта суть вполне конкретный, объективный для зрителя интеллектуальный вывод автора относительно его понимания действительности, выраженный в конкретных же рукотворных формах, составляющих эту самую объективность, то отношение читателя к ней исчерпывается принятием или непринятием авторского суждения.
Вспомним, что мы уже писали по этому поводу: «Ричард Ликок, вскрывая идеологически-концептуальные априорные основания фильма Йориса Ивенса «Испанская земля» (1937), определял сущность последнего: «Тех, кто не был согласен с концепцией автора, фильм отталкивал, а тем, кто разделял его идеи, он нравился…». Не больше и не меньше. Такая полярность мнений («за» или «против»; «нравится» или «нет») свидетельствует о вполне конкретной смысловой нагрузке авторского фильма, возникающей для «своих» супротив «чужих», для особенно верных ценителей того или иного автора и его мнения»[64].
Принятие или неприятие, в свою очередь, определяет способность зрителя к отстранению от условной «авторской мечты» и, как следствие, к большему вниманию его к облику кинематографического запечатления.
Зритель-читатель, не согласный с позицией или взглядами автора, не согласный с условностью «мечты» выраженной в фильме, минует, таким образом, воздействие этой «мечты», оголяет для себя антикинематографическое качество строения такого фильма — оказывается во власти первопричины «магии кино», заключающейся в его документальности. Такая «мечта» сама по себе не вызвала в нем отклика и зритель-читатель, пробужденный своим несогласием с происходящим действием, оказывается способным увидеть форму, в которой эта «мечта» ему предлагается, которой она воздействует на него.
В случае этого зрителя-читателя происходит отказ от уже исполненных им читательских функций и возвращение ему подлинного кинозрительского положения.
Иначе говоря, зритель-читатель в первом случае оказывается вследствие отстранения от условной авторской выдумки как бы оторванным от читательской необходимости и восстановленным в своем только зрительском качестве обостренного зрения, замечающего в этой своей обостренности, внимательности условность авторского действия, оголенную все той же инерцией документальности.
Инерцией, которую он, перестав быть читателем и восстановившись как зритель, теперь может действительно уловить.
Именно поэтому, повторимся, многие зрители, которым не нравится тот или иной фильм, отмечают прежде всего его надуманность, искусственность решений, не соответствующую действительности: они видят его насквозь, видят, как он устроен, наконец, видят, благодаря буквальной камере и отстранению от авторского диктата, сам факт устроенности.
Принятие же авторской идеи означается соответственно иную зрительскую реакцию.
Зритель верит автору, который думает так же, как он. В итоге, через верность идее он верит и экрану, сконструированному автором.
Однако зритель продолжает верить все же не экрану, а именно идее, которой он верит и помимо экрана, вне его. Такой зритель даже не заметит подмены природы кино, ибо вовсе не за нее цепляется его сознание при просмотре.
Уже здесь можно ответить на поставленный выше вопрос. Нет! Зритель-читатель не сможет уловить условность, схваченную документальной камерой, ибо не «зрит» фильм, а читает его.
Обеспеченная инерцией документальности выразительность условной авторской «мечты» как бы сохраняет такого зрителя-читателя только в читательском положении, останавливает его реализацию именно как читателя, увлеченного идеей и в этом избавленного от зрительской необходимости.
Зритель верит автору, художнику, а не кино (и это важный момент, фиксирующий четкое противопоставление авторского начала природе кинематографа).
Фильмы, в которых инерция документальности подменена относительно восприятия общностью идеи (или культуры, культурного опыта) автора и согласного с ним зрителя, — обладающего теми же знаниями, что и автор, необходимыми соответственно для понимания того, что хотел автор сказать своим фильмом, — могут и будут иметь успех у этой части зрительской массы.
Их, эти фильмы, будут любить и будут чтить за «кино», но отнюдь не из кинематографических причин, а из причин идеальных. Из тех причин, в результате которых и произошла подмена понятий, которую мы раскрыли выше.
Напомним вкратце, что эта подмена понятий означает. Вследствие инерции документальности условная авторская «мечта» приобретает большую выразительность для зрителя. Поскольку инерция документальности воспринимается автоматически, неощутимо для зрителя, то он будет определять просмотренный фильм тем, что для него наиболее явно — т. е. авторской условной «мечтой». Подмена понятий, иначе говоря, означает подмену специфики кинематографа выразительностью искусства. Это же происходит и с режиссерами, как мы показали говорили в самом начале.
Поэтому, возвращаясь к зрителю-читателю, доверившемуся автору, можно сказать следующее: такой зритель будет ценить фильм не за его кинематографические качества, которые он и не заметит, но за выразительность авторской идеи — за искусство, подчинившее себе самость кино.
Такой зритель, если говорить еще проще, не будет ценить собственно кино.
Рождается симпатия не к самому фильму, не к кино даже, которое здесь полезно только с точки зрения идеи, которую оно обслуживает, но к этой самой идее, предполагающей не только мысленное качество, но и качество чувственное, эмоциональное. Зритель любит идею, а не только мыслит ее.
В результате выходит, что такому зрителю в общем-то плевать на кинематограф. И смотрит он «кино», потому что игровое кино проще воспринимать; проще не только в сравнении с документом, но и с другими искусствами, в один ряд с которыми оно так стремится.
Проще, наконец, благодаря инерции документальности, составляющей выразительность авторской игровой «мечты».
Он, зритель, с такой же любовью отнесся бы к театральной постановке, к книге, в которых была бы выражена аналогичная волнующая его мысль.
Общность идеи автора и зрителя подтверждает то же положение дел для первого — автору плевать на кино, которое, как верная прислужница, остается в унизительном положении средства обслуживания авторских задач, для которых прежде всего необходимы иные искусства.
То есть для него кино остается в положении инструмента реализации задач художнических, но точно не кинематографических.
Закончим же мы комментариями Кракауэра насчет большой любви зрителя к игровому фильму.
Верно считал Кракауэр: «Благоприятный отклик на произведение какого-то жанра не обязательно зависит от его соответствия специфике кинематографа. Практически многие жанры привлекают большое число зрителей потому, что они отвечают социальным и культурным запросам широких слоев населения; их популярность и приобретается и сохраняется по причинам, не зависящим от их эстетической правомерности. Так, театральный игровой фильм сумел прочно утвердиться на экранах вопреки единодушному мнению наиболее солидных критиков, что этот жанр противоречит самой природе кино. Однако зрителей, которым нравится, скажем, экранизация пьесы «Смерть коммивояжера», привлекают к ней те же качества, какие сделали постановку пьесы боевиком Бродвея. Этим зрителям совершенно все равно, обладает ли ее экранный вариант какой-либо кинематографической спецификой или ее нет и в помине»[65].
Или: «…Существует несчетное количество фильмов, созданных в традициях film d’art. Однако бесспорный успех этих фильмов отнюдь не показатель их эстетических достоинств. Он доказывает лишь то, что такое массовое средство общения, как кино, не может не подчиняться огромному влиянию социальных и культурных условностей, вкусам и глубоко укоренившимся навыкам восприятия широкой публики; вместе взятые, они определяют ее пристрастие к экранным зрелищам, которые могут быть первоклассным развлечением, но имеют мало общего с кинематографом»[66].
Полноценное его разрешение в пользу кино — как это мы старались показать на протяжении всего настоящего текста — возможно только в случае с кино документальным. Именно поэтому игровики старательно видоизменяют свои замкнутые фантазийные миры, впуская в них все большую инерцию документальности: размывают строгие нарративные структуры, выходят на натуру, имитируют документальную съемку и т. д.
Однако для того, чтобы этот парадокс был действительно разрешен, необходимо отказаться от игровых форм вообще. Ибо даже небольшая доля авторских спекуляций, как показывает, например, практика «документальщиков»[62], разрушает общее доверие зрителя экрану; он считывает все экранные формы в согласии с чрезвычайно выразительными — на фоне, может и действительно документальных планов, - игровизированными кусками. Считывает и остается в мнении, что ему диктуют или даже пропагандируют в императивном порядке нужные смыслы (современный же зритель особенно чувствителен к экранной пропаганде).
Режиссеры-авторы на то и авторы, что стремятся выразить свое «Я» в некоторых художественных, рукотворных формах. А потому для того, чтобы уйти от игрового фильма, им прежде всего следовало бы оставить свои художнические искания вообще, — а не только сократить их напряжение в рамках фильма инерцией документальности — исключить свое стремящееся к воспроизводству «Я», чего, конечно, случится не могло.
Игровой фильм сохранился, а с ним сохранился и онтологически необходимый для него парадокс кино и искусства.
За этим парадоксом, за столкновением двух взаимоисключающих начал следует также и столкновение зрительских реакций, происходит борьба внутри зрителя, который должен или остаться зрителем, или стать читателем.
Инерция документальности обуславливает конвенцию зрителя и экрана, упрощая или смягчая взаимодействие первого и последнего. Мера присутствия этой инерции обуславливает только меру смягчения, а не полноценное преодоление дистанции.
И вместе с тем она же, «оживляя» авторскую выдумку, провоцирует в зрителе активного читателя, ибо, смягчая своим присутствием внешнюю дистанцию, она тем самым обостряет дистанцию внутренюю, за которой следует восстановление и внешней дистанции.
Такова парадоксальность игрового фильма, стремящегося к постоянному самоисключению: чем больше выдумки, тем более игровой фильм оказывается во власти сторонних искусств, тем более он собственно не кино, но сфотографированный театр (или любое иное искусство), создающий внешнюю и внутреннюю дистанцию зрителя (читателя) и экрана.
Чем больше инерции документальности, тем меньше внешней дистанции и тем острее присутствие даже малейшей искусственности, тем больше дистанции внутренней, и тем, следовательно, больше дистанции внешней.
Полноценное же разрешение этого парадокса, повторимся, возможно только в случае отказа от игрового фильма вообще — т. е. его исключения (документальная кино-вещь).
И в первом, и во втором, и в третьем случаях игровое кино перестает существовать, заменяясь или гезамткунстверком, или документальной кино-вещью.
Зритель, чувствительность которого доведена до предела относительно интеллектуальной реальности авторской «мечты», неизбежно оказывается в положении сознательного читателя, в положении обманутого стороннего наблюдателя.
Именно отсюда и начинается ответ на поставленный выше вопрос о том, способен ли зритель вскрыть искусственность экрана? И при каких условиях эта способность вообще возможна?
Для того, чтобы обмануться, во-первых, сначала нужно поверить, чему собственно и способствует инерция документальности, обуславливающая «магию кино», а во-вторых, быть в таком состоянии, когда эта вера вообще может развеяться.
Вероятность последнего фактора обуславливается условностью «мечты», вынуждающей зрителя становиться читателем авторских символических форм, которым читатель, будучи первоначально зрителем, вообще доверился.
В общем, зритель, становясь читателем, подчиняется идеальным закономерностям условностей игрового фильма, обнаруживает в себе интеллектуальное напряжение исследователя. Исходя из этих идеальных закономерностей, согласуясь с ними, зритель-читатель определяет действенность или недейственность «магии кино» относительно себя.
Ибо все, что происходит на экране, в итоге имеет только символическое значение, означает нечто помимо того, что буквальная камера запечатлела: реальность физическая подменяется в этом случае реальностью умозрительной. Документальный образ, воплощающий чистоту природы кинематографа, подменяется пусть «оживленным», но все же художественным символом[63].
Фильм, во главе которого утверждено не стремление к согласию с природой кино, а идеальность, необходимость наиболее полного выражения авторской условной мечты, предполагает соответственно закономерности идеального порядка, обуславливающие принцип зрительского, или, лучше сказать читательского взаимодействия с ним.
Поскольку авторская мечта суть вполне конкретный, объективный для зрителя интеллектуальный вывод автора относительно его понимания действительности, выраженный в конкретных же рукотворных формах, составляющих эту самую объективность, то отношение читателя к ней исчерпывается принятием или непринятием авторского суждения.
Вспомним, что мы уже писали по этому поводу: «Ричард Ликок, вскрывая идеологически-концептуальные априорные основания фильма Йориса Ивенса «Испанская земля» (1937), определял сущность последнего: «Тех, кто не был согласен с концепцией автора, фильм отталкивал, а тем, кто разделял его идеи, он нравился…». Не больше и не меньше. Такая полярность мнений («за» или «против»; «нравится» или «нет») свидетельствует о вполне конкретной смысловой нагрузке авторского фильма, возникающей для «своих» супротив «чужих», для особенно верных ценителей того или иного автора и его мнения»[64].
Принятие или неприятие, в свою очередь, определяет способность зрителя к отстранению от условной «авторской мечты» и, как следствие, к большему вниманию его к облику кинематографического запечатления.
Зритель-читатель, не согласный с позицией или взглядами автора, не согласный с условностью «мечты» выраженной в фильме, минует, таким образом, воздействие этой «мечты», оголяет для себя антикинематографическое качество строения такого фильма — оказывается во власти первопричины «магии кино», заключающейся в его документальности. Такая «мечта» сама по себе не вызвала в нем отклика и зритель-читатель, пробужденный своим несогласием с происходящим действием, оказывается способным увидеть форму, в которой эта «мечта» ему предлагается, которой она воздействует на него.
В случае этого зрителя-читателя происходит отказ от уже исполненных им читательских функций и возвращение ему подлинного кинозрительского положения.
Иначе говоря, зритель-читатель в первом случае оказывается вследствие отстранения от условной авторской выдумки как бы оторванным от читательской необходимости и восстановленным в своем только зрительском качестве обостренного зрения, замечающего в этой своей обостренности, внимательности условность авторского действия, оголенную все той же инерцией документальности.
Инерцией, которую он, перестав быть читателем и восстановившись как зритель, теперь может действительно уловить.
Именно поэтому, повторимся, многие зрители, которым не нравится тот или иной фильм, отмечают прежде всего его надуманность, искусственность решений, не соответствующую действительности: они видят его насквозь, видят, как он устроен, наконец, видят, благодаря буквальной камере и отстранению от авторского диктата, сам факт устроенности.
Принятие же авторской идеи означается соответственно иную зрительскую реакцию.
Зритель верит автору, который думает так же, как он. В итоге, через верность идее он верит и экрану, сконструированному автором.
Однако зритель продолжает верить все же не экрану, а именно идее, которой он верит и помимо экрана, вне его. Такой зритель даже не заметит подмены природы кино, ибо вовсе не за нее цепляется его сознание при просмотре.
Уже здесь можно ответить на поставленный выше вопрос. Нет! Зритель-читатель не сможет уловить условность, схваченную документальной камерой, ибо не «зрит» фильм, а читает его.
Обеспеченная инерцией документальности выразительность условной авторской «мечты» как бы сохраняет такого зрителя-читателя только в читательском положении, останавливает его реализацию именно как читателя, увлеченного идеей и в этом избавленного от зрительской необходимости.
Зритель верит автору, художнику, а не кино (и это важный момент, фиксирующий четкое противопоставление авторского начала природе кинематографа).
Фильмы, в которых инерция документальности подменена относительно восприятия общностью идеи (или культуры, культурного опыта) автора и согласного с ним зрителя, — обладающего теми же знаниями, что и автор, необходимыми соответственно для понимания того, что хотел автор сказать своим фильмом, — могут и будут иметь успех у этой части зрительской массы.
Их, эти фильмы, будут любить и будут чтить за «кино», но отнюдь не из кинематографических причин, а из причин идеальных. Из тех причин, в результате которых и произошла подмена понятий, которую мы раскрыли выше.
Напомним вкратце, что эта подмена понятий означает. Вследствие инерции документальности условная авторская «мечта» приобретает большую выразительность для зрителя. Поскольку инерция документальности воспринимается автоматически, неощутимо для зрителя, то он будет определять просмотренный фильм тем, что для него наиболее явно — т. е. авторской условной «мечтой». Подмена понятий, иначе говоря, означает подмену специфики кинематографа выразительностью искусства. Это же происходит и с режиссерами, как мы показали говорили в самом начале.
Поэтому, возвращаясь к зрителю-читателю, доверившемуся автору, можно сказать следующее: такой зритель будет ценить фильм не за его кинематографические качества, которые он и не заметит, но за выразительность авторской идеи — за искусство, подчинившее себе самость кино.
Такой зритель, если говорить еще проще, не будет ценить собственно кино.
Рождается симпатия не к самому фильму, не к кино даже, которое здесь полезно только с точки зрения идеи, которую оно обслуживает, но к этой самой идее, предполагающей не только мысленное качество, но и качество чувственное, эмоциональное. Зритель любит идею, а не только мыслит ее.
В результате выходит, что такому зрителю в общем-то плевать на кинематограф. И смотрит он «кино», потому что игровое кино проще воспринимать; проще не только в сравнении с документом, но и с другими искусствами, в один ряд с которыми оно так стремится.
Проще, наконец, благодаря инерции документальности, составляющей выразительность авторской игровой «мечты».
Он, зритель, с такой же любовью отнесся бы к театральной постановке, к книге, в которых была бы выражена аналогичная волнующая его мысль.
Общность идеи автора и зрителя подтверждает то же положение дел для первого — автору плевать на кино, которое, как верная прислужница, остается в унизительном положении средства обслуживания авторских задач, для которых прежде всего необходимы иные искусства.
То есть для него кино остается в положении инструмента реализации задач художнических, но точно не кинематографических.
Закончим же мы комментариями Кракауэра насчет большой любви зрителя к игровому фильму.
Верно считал Кракауэр: «Благоприятный отклик на произведение какого-то жанра не обязательно зависит от его соответствия специфике кинематографа. Практически многие жанры привлекают большое число зрителей потому, что они отвечают социальным и культурным запросам широких слоев населения; их популярность и приобретается и сохраняется по причинам, не зависящим от их эстетической правомерности. Так, театральный игровой фильм сумел прочно утвердиться на экранах вопреки единодушному мнению наиболее солидных критиков, что этот жанр противоречит самой природе кино. Однако зрителей, которым нравится, скажем, экранизация пьесы «Смерть коммивояжера», привлекают к ней те же качества, какие сделали постановку пьесы боевиком Бродвея. Этим зрителям совершенно все равно, обладает ли ее экранный вариант какой-либо кинематографической спецификой или ее нет и в помине»[65].
Или: «…Существует несчетное количество фильмов, созданных в традициях film d’art. Однако бесспорный успех этих фильмов отнюдь не показатель их эстетических достоинств. Он доказывает лишь то, что такое массовое средство общения, как кино, не может не подчиняться огромному влиянию социальных и культурных условностей, вкусам и глубоко укоренившимся навыкам восприятия широкой публики; вместе взятые, они определяют ее пристрастие к экранным зрелищам, которые могут быть первоклассным развлечением, но имеют мало общего с кинематографом»[66].
ВЫВОДЫ
Последовательно резюмируем некоторые общие выводы.
Первое. Словосочетание «магия кино» (и ему по смыслу подобные) возникло в результате подмены понятий, обусловленной целым комплексом факторов, ключевой из которых — особенности развития кинематографической культуры зрителя.
Второе. «Магия кино» означает ничто иное, как документальность или инерцию документальности, преодолевающую дистанцию между зрителем и экраном, возбуждающую его прежде всего эмпирические реакции.
Документальность составляет природу документального кино, кино как такового; инерция документальности выступает кинематографическим компонентом игрового фильма, обуславливающим выразительность авторской «мечты» и инаковость её зрительского переживания.
Третье. Словосочетание «магия кино» и до сегодняшнего продолжает существовать в качестве традиционной для «критиков театрального толка» маскировки их непонимания природы кино, выраженного в подмене понятий: в фальсификации сущности кинематографа посредством обоснования её выразительностью искусства на экране.
Четвертое. Это непонимание продолжает вызываться «младенчеством» кинематографической культуры участников современных кинопроцесса и кинодискурса.
«Младенчество» обусловлено ведущим положением игрового, экспериментального и т. п. фильма, отвергающего, подменяющего своей практикой самость кино самостью искусства, утверждающего gesamtkunstwerk в качестве единственной достойной цели кинематографа[67].
Игровой, экспериментальный, спекулятивный документальный фильм учит не смотреть, а читать экран.
Верно по этому поводу говорил Балаш: «Зримого человека уже или еще нет… По закону природы органы, не находящие применения, отмирают. При господстве культуры слова мы не полностью использовали выразительные возможности нашего тела и поэтому частично утратили их. Мы очень частно встречаемся с тем фактом, что (зримые — добавление мое, Д.Х.) жесты и движения дикарей разнообразнее, чем у высокообразованных европейцев, обладающих богатейшим словарем»[68].
Балаш не учел, что и кино, подчинившись законам искусства, стало существовать в рамках культуры слова. Боровшись за «кино-как-искусство», Балаш, тем самым, утвердил «кино-как-язык», «кино-как-текст», а не «кино-как-зримое», «кино-как-кино». Вместо подлинного, документального кино на экранах царствует игровой развлекательный фильм, спекулятивный авторский документ, экспериментальный фильм. Но собственно кино НЕТ. А значит не может быть и кинематографической культуры.
Приученный к чтению зритель не приобрел способности видеть, но лишь развил свои читательские способности, распространив их и на документальный образ, который автор-художник (не кинематографист!) подчинил себе.
В результате кинематографический зритель обратился очередным читателем синтетического по своей сути недоискусства «кино».
В таких условиях, повторимся, не может развиваться зрительная, кинематографическая культура, к которой призывал противоречивый Балаш.
А потому — пятое — закрепляется положение «младенческой» (ей просто неоткуда взяться!) культуры зрения и у зрителя-читателя, читающего фильмы, которые предназначены именно для чтения, и у режиссера, ориентированного на такого зрителя-читателя или хотя бы даже на себя — на свои художнические текстуальные искания. В рамках тех же закономерностей продолжает существовать критик и теоретик.
Тот самый замкнутый круг, о котором мы уже говорили.
Этим объясняется, во-первых, современная трактовка понятия «магии кино» (как мы показали, в корне неверная), разошедшаяся на страницы многочисленных журналов и блогов и силящаяся объяснить характер зрительского переживания, а во-вторых, дурной тон современной кинокритики, для которой существуют, например, цитируя одного «киномыслителя», «две большие традиции кинематографа без камеры… Первая — это монтажный фильм… Вторая — это абстракционистская ветвь авангардного кино».
Но обо всем этом мы ещё не раз скажем подробнее. Эти выводы — предначертания для последующих исследований.
Закончим верным замечанием польского документалиста Ежи Боссака, которое следует понимать не только в контексте польского кинопроцесса 50−60-х гг., но в смысле кино вне временных рамок.
Боссак говорил: «Судьбы польского «документа» являются исключительно судьбами кинематографии, тогда как художественный кинематограф тесно связан с польской литературой»[69]
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] См. 3 ч. цикла статей «Документальный образ», в котором мы писали: «И потому он эстетически ценен, способен спровоцировать эстетическое переживание. Даже сверхэстетическое, ибо, как было сказано, запечатлевая документальный образ посредством чистого впечатления камера фиксирует также и момент невыразимого вдохновения, явленного в акте внимания, которое ещё не оформлено, как это принято в традиционном искусстве, в наследующих ему игровом или экспериментальном кино, в конкретные, ограничивающие это самое вдохновение художественные формы».
[2,11,19,20,43,52,53] См. книгу Марины Голдовской «Творчество и техника»
[3,5,7,27,29] См. первый том «Истории кино» Ежи Теплица
[4] См. книгу Жоржа Садуля «История киноискусства»
[6] Цит. по первому тому «Истории кино» Ежи Теплица
[8] См. книгу «Бергман о Бергмане»
[9] См. книгу «Laterna Magica» Ингмара Бергмана
[10] Так размышлял Андрей Тарковский по поводу кино в своем эссе «Запечатленное время»
[12] В книге «Кино. Становление и сущность нового искусства» Балаш отмечал, что во-первых, «вследствие объективного обогащения в киноискусстве возникает кинематографическое „зрение“, или кинематографическая культура», во-вторых, «речь… идет не о понимании сложившегося искусства, но о судьбе искусства, которое складывается в зависимости от того, как мы его понимаем. Мы ответственны за то, сколь высоким будет его уровень», и в-третьих, «в течение двадцати лет с небывалой быстротой развился, отшлифовался и обособился новый изобразительный язык». Для нас важно не то, что Балаш борется за признание кино искусством (с критикой этого взгляда мы уже выступали и позже выступим более обстоятельно), а то, что он указывает на развитие кинематографической культуры.
[13] Так определял кинокритиков, акцентрирующих свое внимание на театральной постановке и сюжете, Зигфрид Кракауэр в книге «Природа фильма»
[14] Мы продемонстрировали это на примере работ некоторых теоретиков, проанализированных в ч. 1−2 нашего цикла статей «Документальный образ: поиск и формулировка»
[15] См. курсовое исследование Арсения Тероева «Создание кинокритического медиатекста в печатных и сетевых медиа»
[16] См. книгу Кшиштофа Кесьлевского «О себе»
[17,21,23,68] См. книгу Белы Балаша «Кино. Становление и сущность нового искусства»
[18] Цит. по книге Марины Голдовской «Творчество и техника»
[22] См. эссе Анисима Чхалова «Кино не может быть искусством. Пару ласковых о десятой музе»
[24] См. эссе Хосе Ортега-и-Гассета. «Дегуманизация искусства»
[25,34,42,45,46,49,50,51,54,55,61,65,66] См. книгу Зигфрида Кракауэра «Природа фильма»
[26] Герц Франк, «Карта Птолемея»
[28] Цит. по книге «Из истории французской киномысли»
[30] См. книгу «Дзига Вертов. Из наследия. Статьи и выступления»
[31] См. книгу Рене Клера «Размышления о киноискусстве»
[32] См. текст «Будущее звуковой фильмы» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова
[33,41,63] См. наш цикл статей «Документальный образ: поиск и формулировка»
[35] См. эссе Андрея Тарковского «Запечатленное время»
[36] Так, реакции на нашу кино-вещь «Облик» были весьма разнообразными, полифоничными. В качестве примера зрительского взгляда предлагаем рецензию «Под светом ходящие» Екатерины Сухоруковой
[37] См. книгу Феликса Месгиша «Вертя ручку»
[38] Цит. по книге Зигфрида Кракауэра «Природа фильма»
[39] См. здесь и далее статью «Великое документальное»
[40] См. здесь и далее книгу Зигфрида Кракауэра «Природа фильма»
[44] Так, в цикле «Друзья сверхискусства кино» мы отмечали, что зрителей привлекало только фокусничество подвижной сказки, художническая антиконвенция.
[47] См. книгу Луи Деллюк «Фотогения»
[48,57] См. книгу Галины Прожико «Экран мировой документалистики»
[49] Так относился к театру Кракауэр в книге «Природа фильма»; это же характерно и для игрового фильма.
[56] См. статью «Полемические соображения насчет киноэксперимента»
[58] Здесь и далее цит. по книге Зигфрида Кракауэра «Природа фильма»
[59] См. сборник «Современный документальный фильм»
[60] С. Эйзенштейн, Гордость. Избранные произведения в 6-ти томах, т.5
[62] Термин, введеный Арсением Тероевым в статье «Эффект толпы в документальном кино»; означает документалиста-автора, документалиста-спекулянта, игровизирующего документальный материал в художественном ключе своей авторской мировоззреческой концепции.
[64] См. наш центральный текст «Взгляд»
[67] Сразу вспоминается дискуссия Марселя Паньоля, считавшего кино ценным только из театральных соображений, и Рене Клера, убежденного в том, что кино — самостоятельное искусство. В теоретических изысканиях победил Клер (его риторику можно проследить у современных лжекритиков); но на практике, как показывает современность, одержал победу Паньоль — игрового кино как кино действительно не существует. Это кино победившей культуры слова, победившего театра и литературы, ценное своей театральностью и литературностью. Подробнее см. книгу Рене Клера «Размышления о киноискусстве».
[69] См. сборник «Правда кино и „кино-правда“», дискуссия «Третье направление?»
Последовательно резюмируем некоторые общие выводы.
Первое. Словосочетание «магия кино» (и ему по смыслу подобные) возникло в результате подмены понятий, обусловленной целым комплексом факторов, ключевой из которых — особенности развития кинематографической культуры зрителя.
Второе. «Магия кино» означает ничто иное, как документальность или инерцию документальности, преодолевающую дистанцию между зрителем и экраном, возбуждающую его прежде всего эмпирические реакции.
Документальность составляет природу документального кино, кино как такового; инерция документальности выступает кинематографическим компонентом игрового фильма, обуславливающим выразительность авторской «мечты» и инаковость её зрительского переживания.
Третье. Словосочетание «магия кино» и до сегодняшнего продолжает существовать в качестве традиционной для «критиков театрального толка» маскировки их непонимания природы кино, выраженного в подмене понятий: в фальсификации сущности кинематографа посредством обоснования её выразительностью искусства на экране.
Четвертое. Это непонимание продолжает вызываться «младенчеством» кинематографической культуры участников современных кинопроцесса и кинодискурса.
«Младенчество» обусловлено ведущим положением игрового, экспериментального и т. п. фильма, отвергающего, подменяющего своей практикой самость кино самостью искусства, утверждающего gesamtkunstwerk в качестве единственной достойной цели кинематографа[67].
Игровой, экспериментальный, спекулятивный документальный фильм учит не смотреть, а читать экран.
Верно по этому поводу говорил Балаш: «Зримого человека уже или еще нет… По закону природы органы, не находящие применения, отмирают. При господстве культуры слова мы не полностью использовали выразительные возможности нашего тела и поэтому частично утратили их. Мы очень частно встречаемся с тем фактом, что (зримые — добавление мое, Д.Х.) жесты и движения дикарей разнообразнее, чем у высокообразованных европейцев, обладающих богатейшим словарем»[68].
Балаш не учел, что и кино, подчинившись законам искусства, стало существовать в рамках культуры слова. Боровшись за «кино-как-искусство», Балаш, тем самым, утвердил «кино-как-язык», «кино-как-текст», а не «кино-как-зримое», «кино-как-кино». Вместо подлинного, документального кино на экранах царствует игровой развлекательный фильм, спекулятивный авторский документ, экспериментальный фильм. Но собственно кино НЕТ. А значит не может быть и кинематографической культуры.
Приученный к чтению зритель не приобрел способности видеть, но лишь развил свои читательские способности, распространив их и на документальный образ, который автор-художник (не кинематографист!) подчинил себе.
В результате кинематографический зритель обратился очередным читателем синтетического по своей сути недоискусства «кино».
В таких условиях, повторимся, не может развиваться зрительная, кинематографическая культура, к которой призывал противоречивый Балаш.
А потому — пятое — закрепляется положение «младенческой» (ей просто неоткуда взяться!) культуры зрения и у зрителя-читателя, читающего фильмы, которые предназначены именно для чтения, и у режиссера, ориентированного на такого зрителя-читателя или хотя бы даже на себя — на свои художнические текстуальные искания. В рамках тех же закономерностей продолжает существовать критик и теоретик.
Тот самый замкнутый круг, о котором мы уже говорили.
Этим объясняется, во-первых, современная трактовка понятия «магии кино» (как мы показали, в корне неверная), разошедшаяся на страницы многочисленных журналов и блогов и силящаяся объяснить характер зрительского переживания, а во-вторых, дурной тон современной кинокритики, для которой существуют, например, цитируя одного «киномыслителя», «две большие традиции кинематографа без камеры… Первая — это монтажный фильм… Вторая — это абстракционистская ветвь авангардного кино».
Но обо всем этом мы ещё не раз скажем подробнее. Эти выводы — предначертания для последующих исследований.
Закончим верным замечанием польского документалиста Ежи Боссака, которое следует понимать не только в контексте польского кинопроцесса 50−60-х гг., но в смысле кино вне временных рамок.
Боссак говорил: «Судьбы польского «документа» являются исключительно судьбами кинематографии, тогда как художественный кинематограф тесно связан с польской литературой»[69]
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] См. 3 ч. цикла статей «Документальный образ», в котором мы писали: «И потому он эстетически ценен, способен спровоцировать эстетическое переживание. Даже сверхэстетическое, ибо, как было сказано, запечатлевая документальный образ посредством чистого впечатления камера фиксирует также и момент невыразимого вдохновения, явленного в акте внимания, которое ещё не оформлено, как это принято в традиционном искусстве, в наследующих ему игровом или экспериментальном кино, в конкретные, ограничивающие это самое вдохновение художественные формы».
[2,11,19,20,43,52,53] См. книгу Марины Голдовской «Творчество и техника»
[3,5,7,27,29] См. первый том «Истории кино» Ежи Теплица
[4] См. книгу Жоржа Садуля «История киноискусства»
[6] Цит. по первому тому «Истории кино» Ежи Теплица
[8] См. книгу «Бергман о Бергмане»
[9] См. книгу «Laterna Magica» Ингмара Бергмана
[10] Так размышлял Андрей Тарковский по поводу кино в своем эссе «Запечатленное время»
[12] В книге «Кино. Становление и сущность нового искусства» Балаш отмечал, что во-первых, «вследствие объективного обогащения в киноискусстве возникает кинематографическое „зрение“, или кинематографическая культура», во-вторых, «речь… идет не о понимании сложившегося искусства, но о судьбе искусства, которое складывается в зависимости от того, как мы его понимаем. Мы ответственны за то, сколь высоким будет его уровень», и в-третьих, «в течение двадцати лет с небывалой быстротой развился, отшлифовался и обособился новый изобразительный язык». Для нас важно не то, что Балаш борется за признание кино искусством (с критикой этого взгляда мы уже выступали и позже выступим более обстоятельно), а то, что он указывает на развитие кинематографической культуры.
[13] Так определял кинокритиков, акцентрирующих свое внимание на театральной постановке и сюжете, Зигфрид Кракауэр в книге «Природа фильма»
[14] Мы продемонстрировали это на примере работ некоторых теоретиков, проанализированных в ч. 1−2 нашего цикла статей «Документальный образ: поиск и формулировка»
[15] См. курсовое исследование Арсения Тероева «Создание кинокритического медиатекста в печатных и сетевых медиа»
[16] См. книгу Кшиштофа Кесьлевского «О себе»
[17,21,23,68] См. книгу Белы Балаша «Кино. Становление и сущность нового искусства»
[18] Цит. по книге Марины Голдовской «Творчество и техника»
[22] См. эссе Анисима Чхалова «Кино не может быть искусством. Пару ласковых о десятой музе»
[24] См. эссе Хосе Ортега-и-Гассета. «Дегуманизация искусства»
[25,34,42,45,46,49,50,51,54,55,61,65,66] См. книгу Зигфрида Кракауэра «Природа фильма»
[26] Герц Франк, «Карта Птолемея»
[28] Цит. по книге «Из истории французской киномысли»
[30] См. книгу «Дзига Вертов. Из наследия. Статьи и выступления»
[31] См. книгу Рене Клера «Размышления о киноискусстве»
[32] См. текст «Будущее звуковой фильмы» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова
[33,41,63] См. наш цикл статей «Документальный образ: поиск и формулировка»
[35] См. эссе Андрея Тарковского «Запечатленное время»
[36] Так, реакции на нашу кино-вещь «Облик» были весьма разнообразными, полифоничными. В качестве примера зрительского взгляда предлагаем рецензию «Под светом ходящие» Екатерины Сухоруковой
[37] См. книгу Феликса Месгиша «Вертя ручку»
[38] Цит. по книге Зигфрида Кракауэра «Природа фильма»
[39] См. здесь и далее статью «Великое документальное»
[40] См. здесь и далее книгу Зигфрида Кракауэра «Природа фильма»
[44] Так, в цикле «Друзья сверхискусства кино» мы отмечали, что зрителей привлекало только фокусничество подвижной сказки, художническая антиконвенция.
[47] См. книгу Луи Деллюк «Фотогения»
[48,57] См. книгу Галины Прожико «Экран мировой документалистики»
[49] Так относился к театру Кракауэр в книге «Природа фильма»; это же характерно и для игрового фильма.
[56] См. статью «Полемические соображения насчет киноэксперимента»
[58] Здесь и далее цит. по книге Зигфрида Кракауэра «Природа фильма»
[59] См. сборник «Современный документальный фильм»
[60] С. Эйзенштейн, Гордость. Избранные произведения в 6-ти томах, т.5
[62] Термин, введеный Арсением Тероевым в статье «Эффект толпы в документальном кино»; означает документалиста-автора, документалиста-спекулянта, игровизирующего документальный материал в художественном ключе своей авторской мировоззреческой концепции.
[64] См. наш центральный текст «Взгляд»
[67] Сразу вспоминается дискуссия Марселя Паньоля, считавшего кино ценным только из театральных соображений, и Рене Клера, убежденного в том, что кино — самостоятельное искусство. В теоретических изысканиях победил Клер (его риторику можно проследить у современных лжекритиков); но на практике, как показывает современность, одержал победу Паньоль — игрового кино как кино действительно не существует. Это кино победившей культуры слова, победившего театра и литературы, ценное своей театральностью и литературностью. Подробнее см. книгу Рене Клера «Размышления о киноискусстве».
[69] См. сборник «Правда кино и „кино-правда“», дискуссия «Третье направление?»