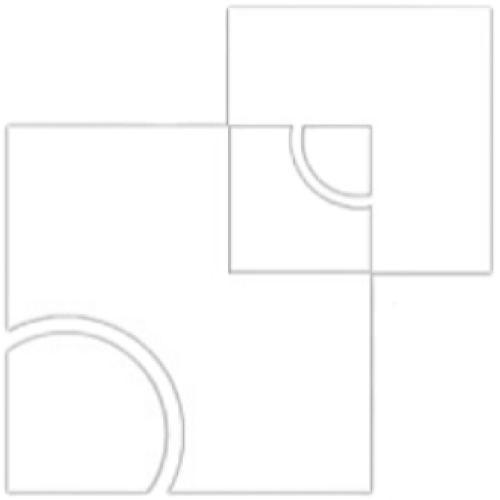ВЗГЛЯД
ДОКУМ-ХРОНИК
ВЗГЛЯД
ДОКУМ-ХРОНИК
Красной нитью во всех наших публикациях, эссе и творческих кино-опытах проходит теоретическая борьба за самостоятельное, независимое от других художеств киноискусство.
С первых киномыслей ДОКУМ-ХРОНИК, сменивший разноцветную кожуру эклектичного Entr'acte, сторожит рубежи подлинного, воплощающего «нигде не краденный ритм» кинематографа – единственно способного нести это великое имя.
За год своего существование настоящее сообщество выработало, пусть до конца и не завершенный, но всё же эстетический взгляд, отвечающий требованиям нашей борьбы.
И этот взгляд сегодня – в первые дни нового года – надлежит оформить и конкретизировать, завершив некоторые полемические соображения прошлого.
Документальное – подлинное
Прежде чем вступать на путь борьбы за суверенитет кинематографа, следует определить его природу – то, что составляет самобытность кино и, значит, определяет характер искомой независимости.
Природа киноискусства, оперирующего образами жизненного движения, реальности, в своём основании документальна. В практическом отношении этот тезис подтверждается историческими причинами рождения кинематографа. Так, Люмьеры, и предшествующие им Эдисон и Диксон, всячески экспериментировали с возможностями киноаппарата, совершенствовали механизм с целью вбирать и выражать самую жизнь: от её видимого движения и вплоть до звука («Экспериментальный звуковой фильм Диксона») и цвета («Танец Лори Фуллер»).
Поиск формальной выразительности, свойственный отцам кино и их потомкам, исходно связывался с жизнью, с возможностью всецело представить её на экране[1].
Неспроста много позже советский режиссер Андрей Тарковский в хронике Люмьеров увидел подлинное «рождение киноискусства». Киноискусства, впоследствии извращенного «мнимохудожественным» подчинением литературе и театру[2].
В схожем ключе природу кинематографа определял Зигфрид Кракауэр, считавший, что «кино является самим собой лишь в том случае, когда регистрирует и раскрывает окружающую физическую действительность»[3].
Традиция связывать кинематограф со способностью запечатлевать и выражать движение жизни возникла вместе с рождением кино-теории. Ещё Риччото Канудо, лежавший у истоков кинематографической мысли, заявлял, что кино «должно возвратить изображение жизни к источникам всех эмоций, ища самое жизнь посредством движения»[4]. Тогда как другие искусства, по его мнению, «схематизируют» и «упрощают» жизненное впечатление, кино тесно сопряжено с последним – буквально воплощает это самое впечатление во всей полноте.
Именно в этом смысле следует понимать слова Артавазда Пелешяна, утверждавшего, что «рождение киноискусства не следует рассматривать как синтетическое, механическое или немеханическое слияние разных видов искусств. Не оно рождается от них, а наоборот, они в принципе должны были бы родиться от него — несмотря на то, что известный нам объективный исторический процесс привел к тому, что мы имели, видели и знали «рожденных» раньше, чем «рождающего»»[5].
В своей природной способности запечатлевать и воплощать чистое жизненное впечатление кинематограф, таким образом, строго отделяется от других искусств. Однако не следует думать, будто этой природе следуют все формы кинематографического творчества. Ложно то мнение, какое в грязи и неправде видит чистоту и подлинность. Именно здесь возникает водораздел между игровым и документальным кино.
Тогда как игровое кино существует в тесной связи с другими искусствами, подчас капитулируя перед их воздействием (вспомним театральность Мельеса или свойственную современности гиперболу литературного сценария и актерской инсценировки), судьба «документа», по словам Ежи Боссака, исчерпывается «исключительно судьбами кинематографии»[6].
Иными словами, документальное кино, свободно оперирующее образами реальности, впитывающее жизненное движение, преодолевает необходимость чуждых вливаний других искусств. Это подтверждается идейными позициями большинства сознательных документалистов, которых можно условно назвать «вертовцами». Ещё Вертов в небезызвестном киноческом манифесте заявлял: «Мы протестуем против смешения искусств, которое многие называют синтезом. Смешение плохих красок, даже идеально подобранных под цвета спектра, даст не белый цвет, а грязь… Мы очищаем киночество от примазавшихся к нему, от музыки, литературы и театра, ищем своего, нигде не краденного ритма и находим его в движениях вещей»[7].
Его последователи, такие как, например, Ричард Ликок, Роберт Дрю, Дон Алан Паннебейкер и ряд других, на практике осуществили «нигде не краденный ритм» подлинного кино. Борьба с литературным сценарием, со словом, которая доходила вплоть до исключения дикторского текста. Преодоление инсценировки – бича документализма. Без всяких «промежуточных» компромиссов американские документалисты достигают подлинной кинематографической выразительности.
Впрочем, конечно, не только американские – о других ещё будет сказано.
Как высказывался Боссак, «влияние документального кино оказалось для игрового плодотворным, в то время как сюжетное кино пагубно влияет на документальное. Таким образом, в документализме я стою за чистоту жанра, а работников художественного кино горячо… призываю использовать достижения документалистов»[8].
Игровое кино, терпящее диктат со стороны слова (сценарий) и сцены (актерская игра), в стремлении к освобождению и обретению самостоятельности – а значит к самому развитию и обновлению, иначе невозможному – неизбежно обращается к документализму. Игровой кинематограф, копошась в поисках спасения, обогащает собственную художественную синтетичность и полуфабрикатность кинематографической подлинностью документа. Будто полуфабрикат, добавь в него чуть больше хорошего мяса, войдет даже хотя бы в приблизительное сравнение с настоящим мясным окороком…
Документально-хроникальное можно буквально признать «чистым кино»: в этой области раскрывается независимая полнота киноискусства, стимулирующая (как это показала история) его развитие. Достаточно привести некоторые примеры. Неореалистическая тенденция в Италии, «новая волна» во Франции (Годар, к примеру, участвовал в художественном объединении имени Дзига Вертова), специфический кино-процесс в Штатах (вспомним «крестного отца нью-йоркского киноавангарда» Йонаса Мекаса или того же Ликока), «Свободное кино» Линдсея Андерсона в Англии, «Догма-95» Триера и т. п. Все эти авангардные течения стояли на обогащении игрового кино качествами документализма, способствующими внешнему и внутреннему прогрессу экранного искусства в целом. Однонаправленный вектор, так сказать, налицо[9].
Суверенное киноискусство может быть таковым только при условии его заключения в рамках собственной природы. И поскольку эта природа документальна, то и самостоятельность кино обретается исключительно в рамках документализма. И только в них возможно развитие и обновление всего тела кинематографии.
Не зря, как нам представляется, Дзига Вертов ругал «игровиков» за их театральность, за «литературный костяк», на который наслаивается подчиненное, иллюстративное «кино-мясо»[10]. Верна вертовская позиция, отрицающая такую кинематографию.
С первых киномыслей ДОКУМ-ХРОНИК, сменивший разноцветную кожуру эклектичного Entr'acte, сторожит рубежи подлинного, воплощающего «нигде не краденный ритм» кинематографа – единственно способного нести это великое имя.
За год своего существование настоящее сообщество выработало, пусть до конца и не завершенный, но всё же эстетический взгляд, отвечающий требованиям нашей борьбы.
И этот взгляд сегодня – в первые дни нового года – надлежит оформить и конкретизировать, завершив некоторые полемические соображения прошлого.
Документальное – подлинное
Прежде чем вступать на путь борьбы за суверенитет кинематографа, следует определить его природу – то, что составляет самобытность кино и, значит, определяет характер искомой независимости.
Природа киноискусства, оперирующего образами жизненного движения, реальности, в своём основании документальна. В практическом отношении этот тезис подтверждается историческими причинами рождения кинематографа. Так, Люмьеры, и предшествующие им Эдисон и Диксон, всячески экспериментировали с возможностями киноаппарата, совершенствовали механизм с целью вбирать и выражать самую жизнь: от её видимого движения и вплоть до звука («Экспериментальный звуковой фильм Диксона») и цвета («Танец Лори Фуллер»).
Поиск формальной выразительности, свойственный отцам кино и их потомкам, исходно связывался с жизнью, с возможностью всецело представить её на экране[1].
Неспроста много позже советский режиссер Андрей Тарковский в хронике Люмьеров увидел подлинное «рождение киноискусства». Киноискусства, впоследствии извращенного «мнимохудожественным» подчинением литературе и театру[2].
В схожем ключе природу кинематографа определял Зигфрид Кракауэр, считавший, что «кино является самим собой лишь в том случае, когда регистрирует и раскрывает окружающую физическую действительность»[3].
Традиция связывать кинематограф со способностью запечатлевать и выражать движение жизни возникла вместе с рождением кино-теории. Ещё Риччото Канудо, лежавший у истоков кинематографической мысли, заявлял, что кино «должно возвратить изображение жизни к источникам всех эмоций, ища самое жизнь посредством движения»[4]. Тогда как другие искусства, по его мнению, «схематизируют» и «упрощают» жизненное впечатление, кино тесно сопряжено с последним – буквально воплощает это самое впечатление во всей полноте.
Именно в этом смысле следует понимать слова Артавазда Пелешяна, утверждавшего, что «рождение киноискусства не следует рассматривать как синтетическое, механическое или немеханическое слияние разных видов искусств. Не оно рождается от них, а наоборот, они в принципе должны были бы родиться от него — несмотря на то, что известный нам объективный исторический процесс привел к тому, что мы имели, видели и знали «рожденных» раньше, чем «рождающего»»[5].
В своей природной способности запечатлевать и воплощать чистое жизненное впечатление кинематограф, таким образом, строго отделяется от других искусств. Однако не следует думать, будто этой природе следуют все формы кинематографического творчества. Ложно то мнение, какое в грязи и неправде видит чистоту и подлинность. Именно здесь возникает водораздел между игровым и документальным кино.
Тогда как игровое кино существует в тесной связи с другими искусствами, подчас капитулируя перед их воздействием (вспомним театральность Мельеса или свойственную современности гиперболу литературного сценария и актерской инсценировки), судьба «документа», по словам Ежи Боссака, исчерпывается «исключительно судьбами кинематографии»[6].
Иными словами, документальное кино, свободно оперирующее образами реальности, впитывающее жизненное движение, преодолевает необходимость чуждых вливаний других искусств. Это подтверждается идейными позициями большинства сознательных документалистов, которых можно условно назвать «вертовцами». Ещё Вертов в небезызвестном киноческом манифесте заявлял: «Мы протестуем против смешения искусств, которое многие называют синтезом. Смешение плохих красок, даже идеально подобранных под цвета спектра, даст не белый цвет, а грязь… Мы очищаем киночество от примазавшихся к нему, от музыки, литературы и театра, ищем своего, нигде не краденного ритма и находим его в движениях вещей»[7].
Его последователи, такие как, например, Ричард Ликок, Роберт Дрю, Дон Алан Паннебейкер и ряд других, на практике осуществили «нигде не краденный ритм» подлинного кино. Борьба с литературным сценарием, со словом, которая доходила вплоть до исключения дикторского текста. Преодоление инсценировки – бича документализма. Без всяких «промежуточных» компромиссов американские документалисты достигают подлинной кинематографической выразительности.
Впрочем, конечно, не только американские – о других ещё будет сказано.
Как высказывался Боссак, «влияние документального кино оказалось для игрового плодотворным, в то время как сюжетное кино пагубно влияет на документальное. Таким образом, в документализме я стою за чистоту жанра, а работников художественного кино горячо… призываю использовать достижения документалистов»[8].
Игровое кино, терпящее диктат со стороны слова (сценарий) и сцены (актерская игра), в стремлении к освобождению и обретению самостоятельности – а значит к самому развитию и обновлению, иначе невозможному – неизбежно обращается к документализму. Игровой кинематограф, копошась в поисках спасения, обогащает собственную художественную синтетичность и полуфабрикатность кинематографической подлинностью документа. Будто полуфабрикат, добавь в него чуть больше хорошего мяса, войдет даже хотя бы в приблизительное сравнение с настоящим мясным окороком…
Документально-хроникальное можно буквально признать «чистым кино»: в этой области раскрывается независимая полнота киноискусства, стимулирующая (как это показала история) его развитие. Достаточно привести некоторые примеры. Неореалистическая тенденция в Италии, «новая волна» во Франции (Годар, к примеру, участвовал в художественном объединении имени Дзига Вертова), специфический кино-процесс в Штатах (вспомним «крестного отца нью-йоркского киноавангарда» Йонаса Мекаса или того же Ликока), «Свободное кино» Линдсея Андерсона в Англии, «Догма-95» Триера и т. п. Все эти авангардные течения стояли на обогащении игрового кино качествами документализма, способствующими внешнему и внутреннему прогрессу экранного искусства в целом. Однонаправленный вектор, так сказать, налицо[9].
Суверенное киноискусство может быть таковым только при условии его заключения в рамках собственной природы. И поскольку эта природа документальна, то и самостоятельность кино обретается исключительно в рамках документализма. И только в них возможно развитие и обновление всего тела кинематографии.
Не зря, как нам представляется, Дзига Вертов ругал «игровиков» за их театральность, за «литературный костяк», на который наслаивается подчиненное, иллюстративное «кино-мясо»[10]. Верна вертовская позиция, отрицающая такую кинематографию.
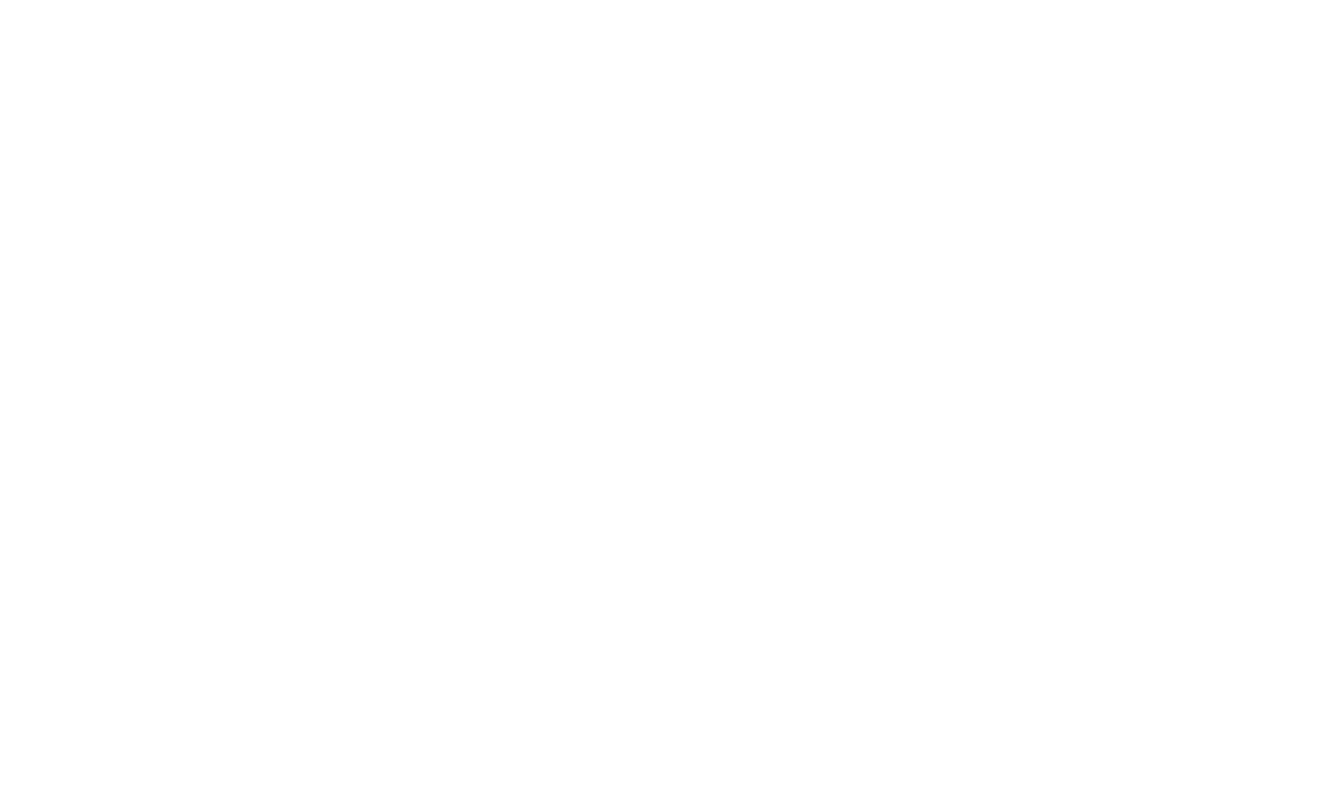
«Тише!», реж. Виктор Косаковский
Чистый документализм
Вступая в борьбу за самостоятельность киноискусства мы неизбежно берем на щит его подлинную – документальную – природу. В этом заключается фундаментальная, можно сказать, объективная закономерность нашего перехода на сторону документально-хроникального кино: на единственно возможную сторону в борьбе за суверенный кинематограф.
Поскольку документальное кино исчерпывает собой кинематографическую подлинность, воплощает кино-естество во всей полноте, целесообразнее ограничиться именно его спецификой, могущей раскрыть сущность киноискусства.
Средство, ресурс и конечная цель документального кинематографа заключены в запечатлении и выражении жизни. Стало быть, говоря о документализме, мы подразумеваем такой подход к документу, который способен эту самую жизнь выразить наиболее полно, без всяких искажений и спекуляций.
Документальное-хроникальное есть ничто иное, как правда, противопоставленная правдоподобию, облагораживающему авторскую казуистику.
Иными словами, чистый, подлинный документализм, на наш взгляд, воплощает в себе кракауэровский тезис о подчинении авторской индивидуальности видимой реальности. В цитате Гуидо Аристарко он звучит следующим образом: «Фотограф, по мнению Кракауэра, опирается на собственную индивидуальность не для того, чтобы выразить ее в «самостоятельных» творческих произведениях, а чтобы растворить ее в сущности окружающих его со всех сторон предметов… Следовательно, «стремление к творчеству» вовсе не обязательно должно противоречить «стремлению к реальному». Наоборот, оно может способствовать усилению этого «стремления к реальному» и его достижению»[11]. Поскольку кинематограф, по мнению теоретика, онтологически связан с фотографией, те же выводы допустимы и в его отношении. Тем более в отношении его подлинной, чистой формы – документализма.
Однако как происходит это подчинение? И почему подчинение не есть ещё исключение?
Сложность проблемы соотношения автора и реальности составляет сложность куда большего порядка – определения документального кино (и кино вообще) искусством. В случае с чистым документализмом сложность эта доведена до предела.
Авторская рука всюду подчинена жизни – как напрямую, в процессе непосредственного взаимодействия с её своевольным движением, так и опосредованно через объективные условия, поставленные механизмом кинокамеры.
«[Документальное] кино воспринимает жизнь, как она есть. Это оказывается возможным в силу механической природы кинокамеры, лишённой всякого сознания, необходимого для интерпретации, искажающей действительность. "Бездушный" механизм уже в силу своего научно-технического, объективного происхождения подчиняет своим внутренним законам человеческую руку: и если в игровом кино рука эта обращает камеру против кинематографического существа, совершает переворот в пользу автора, то кино неигровое всецело отдается законам кинокамеры, а через неё — и законам самой жизни. И чем дальше развитие этого механизма, тем полнее жизнь может проникнуть на экран», — писали мы ранее[12]. Этот же тезис подтверждает документалист Ричард Ликок, с одной стороны, сетующий на неповоротливость старых аппаратов, с которыми он работал вместе с Робертом Флаэрти в «Луизианской истории» (1948), а с другой, – восхваляющий возможности новых ручных камер.
Однако подчинение не есть ещё исключение индивидуальности.
Подчиняясь логике жизни и механизму кинокамеры, автор всё же не лишается собственных глаз. Наконец, камера не может включиться без решения человека. Чистый документализм предполагает выражение не столько холодных, объективных фактов жизни, перед которыми не существует зрительской субъективности, сколько объемной реальности, достигаемой посредством чистого, неосознанного впечатления. Впечатления, которое возникает в результате подчиненной и сиюминутной субъективной реакции на происходящую жизнь.
Документалист, подчиняясь жизненному движению, подчиняется процессу бесконечного обновления, ибо жизнь всюду творит новые и уникальные явления. Это движение, происходящее в действительности, невозможно осмыслить априори: каждый раз новое оно требует новых подходов. Эти мысли остро обозначил американский документалист Ричард Ликок в интервью с Гидеоном Бахманом: «…Куда бы вы ни пошли, вас окружают новые явления, происшествия, с которыми вы недостаточно знакомы. Проблема всегда заключается в том, чтобы увидеть это новое и достоверно выразить его»[14].
Иными словами, чистое впечатление, запечатленное камерой, выражает не априорный или апостериорный взгляд на жизнь, но развивающийся в моменте объективный опыт, который невозможно интерпретировать, ибо он лишь происходит перед наблюдателем.
Разумеется, что в таких обстоятельствах ни о каком самостоятельном, априорном и осознанном авторском творчестве речи быть не может. В ином случае экран выразит отнюдь не жизнь, но личное мнение о ней, что, конечно, будет лишь искажением действительности, правдободобием, а не правдой.
Документалист, находящийся в поисках самой жизни «посредством движения» суть инстинктивный наблюдатель, запечатлевающий камерой чистое интуитивное впечатление, воспринимающее вечное новое.
Неосознанная субъективная интуитивность — единственный способ его взаимодействия с жизнью. И, следовательно, это же единственный способ достижения подлинной действительности на экране. Именно об этом писал Марсель Мартен, исследуя цели французского течения документального кино «синема верите»: «…Достичь истины и объективности посредством активного и субъективного метода»[15].
Документалист, подчиненный жизни, отображает на киноэкране чистое, неосознанное и инстинктивное впечатление – реакцию на сотворение жизни самое себя. В этом самом чистом впечатлении, в возможности его фиксации и репрезентации и заключается творческий акт наблюдателя. «Творческий акт, спровоцированный и подчиненный логике жизни, способен эту самую жизнь выявить наиболее адекватно: субъективное восприятие капитулирует перед логикой объекта этого самого восприятия, подчиняется ему», — ранее было сказано нами[16].
Поскольку жизнь всюду воспринимается субъективно, единственно адекватный способ её объективного выражение есть демонстрация чистого впечатления (по природе своей субъективного), запечатлевающего самотворение жизни. И так как это впечатление не осознанно, идейно и чувственно не статично, то оно не несет авторской программности, исключает авторский диктат.
Ричард Ликок описывает это так: «…Если бы кто-нибудь спросил меня, почему в это мгновение было необходимо снять мужчину, который кладет сахар в кофе (что не имеет никакого отношения ни к чему, о чем я мог думать), я не смог бы объяснить, почему я так поступил»[17].
Это и есть инстинктивная реакция, исключающая всякую априорность автора.
Неспроста, как нам кажется, многие документалисты впоследствии говорили, что сделали бы свой фильм иначе. Но то было бы уже программным, апостериорным авторским мнением, насильственно навязанным действительности. Именно поэтому Марио Рюсполи восхищался операторским мастерством Пьера Ломма в таких словах: «Хороший оператор создаёт художественные образы инстинктивно… От оператора больше не требуется отображать прежде всего «художественное видение» режиссера. От него требуется «жить моментом»… Хорошее знание относительно простой техники и синхронной киносъёмки позволяет оператору «импровизировать изображение»… Я имею ввиду Пьера Ломма, который в течение долгих часов съёмки сохраняет исключительную подвижность камеры, совершенно невероятную способность артистически применяться ко всем неожиданным положениям, продиктованным событиями, протекающими перед камерой»[18].
«Импровизация изображения», по нашему мнению, есть практическое выражение чистого впечатления, адекватного бесконечно меняющейся действительности.
Вступая в борьбу за самостоятельность киноискусства мы неизбежно берем на щит его подлинную – документальную – природу. В этом заключается фундаментальная, можно сказать, объективная закономерность нашего перехода на сторону документально-хроникального кино: на единственно возможную сторону в борьбе за суверенный кинематограф.
Поскольку документальное кино исчерпывает собой кинематографическую подлинность, воплощает кино-естество во всей полноте, целесообразнее ограничиться именно его спецификой, могущей раскрыть сущность киноискусства.
Средство, ресурс и конечная цель документального кинематографа заключены в запечатлении и выражении жизни. Стало быть, говоря о документализме, мы подразумеваем такой подход к документу, который способен эту самую жизнь выразить наиболее полно, без всяких искажений и спекуляций.
Документальное-хроникальное есть ничто иное, как правда, противопоставленная правдоподобию, облагораживающему авторскую казуистику.
Иными словами, чистый, подлинный документализм, на наш взгляд, воплощает в себе кракауэровский тезис о подчинении авторской индивидуальности видимой реальности. В цитате Гуидо Аристарко он звучит следующим образом: «Фотограф, по мнению Кракауэра, опирается на собственную индивидуальность не для того, чтобы выразить ее в «самостоятельных» творческих произведениях, а чтобы растворить ее в сущности окружающих его со всех сторон предметов… Следовательно, «стремление к творчеству» вовсе не обязательно должно противоречить «стремлению к реальному». Наоборот, оно может способствовать усилению этого «стремления к реальному» и его достижению»[11]. Поскольку кинематограф, по мнению теоретика, онтологически связан с фотографией, те же выводы допустимы и в его отношении. Тем более в отношении его подлинной, чистой формы – документализма.
Однако как происходит это подчинение? И почему подчинение не есть ещё исключение?
Сложность проблемы соотношения автора и реальности составляет сложность куда большего порядка – определения документального кино (и кино вообще) искусством. В случае с чистым документализмом сложность эта доведена до предела.
Авторская рука всюду подчинена жизни – как напрямую, в процессе непосредственного взаимодействия с её своевольным движением, так и опосредованно через объективные условия, поставленные механизмом кинокамеры.
«[Документальное] кино воспринимает жизнь, как она есть. Это оказывается возможным в силу механической природы кинокамеры, лишённой всякого сознания, необходимого для интерпретации, искажающей действительность. "Бездушный" механизм уже в силу своего научно-технического, объективного происхождения подчиняет своим внутренним законам человеческую руку: и если в игровом кино рука эта обращает камеру против кинематографического существа, совершает переворот в пользу автора, то кино неигровое всецело отдается законам кинокамеры, а через неё — и законам самой жизни. И чем дальше развитие этого механизма, тем полнее жизнь может проникнуть на экран», — писали мы ранее[12]. Этот же тезис подтверждает документалист Ричард Ликок, с одной стороны, сетующий на неповоротливость старых аппаратов, с которыми он работал вместе с Робертом Флаэрти в «Луизианской истории» (1948), а с другой, – восхваляющий возможности новых ручных камер.
Однако подчинение не есть ещё исключение индивидуальности.
Подчиняясь логике жизни и механизму кинокамеры, автор всё же не лишается собственных глаз. Наконец, камера не может включиться без решения человека. Чистый документализм предполагает выражение не столько холодных, объективных фактов жизни, перед которыми не существует зрительской субъективности, сколько объемной реальности, достигаемой посредством чистого, неосознанного впечатления. Впечатления, которое возникает в результате подчиненной и сиюминутной субъективной реакции на происходящую жизнь.
Документалист, подчиняясь жизненному движению, подчиняется процессу бесконечного обновления, ибо жизнь всюду творит новые и уникальные явления. Это движение, происходящее в действительности, невозможно осмыслить априори: каждый раз новое оно требует новых подходов. Эти мысли остро обозначил американский документалист Ричард Ликок в интервью с Гидеоном Бахманом: «…Куда бы вы ни пошли, вас окружают новые явления, происшествия, с которыми вы недостаточно знакомы. Проблема всегда заключается в том, чтобы увидеть это новое и достоверно выразить его»[14].
Иными словами, чистое впечатление, запечатленное камерой, выражает не априорный или апостериорный взгляд на жизнь, но развивающийся в моменте объективный опыт, который невозможно интерпретировать, ибо он лишь происходит перед наблюдателем.
Разумеется, что в таких обстоятельствах ни о каком самостоятельном, априорном и осознанном авторском творчестве речи быть не может. В ином случае экран выразит отнюдь не жизнь, но личное мнение о ней, что, конечно, будет лишь искажением действительности, правдободобием, а не правдой.
Документалист, находящийся в поисках самой жизни «посредством движения» суть инстинктивный наблюдатель, запечатлевающий камерой чистое интуитивное впечатление, воспринимающее вечное новое.
Неосознанная субъективная интуитивность — единственный способ его взаимодействия с жизнью. И, следовательно, это же единственный способ достижения подлинной действительности на экране. Именно об этом писал Марсель Мартен, исследуя цели французского течения документального кино «синема верите»: «…Достичь истины и объективности посредством активного и субъективного метода»[15].
Документалист, подчиненный жизни, отображает на киноэкране чистое, неосознанное и инстинктивное впечатление – реакцию на сотворение жизни самое себя. В этом самом чистом впечатлении, в возможности его фиксации и репрезентации и заключается творческий акт наблюдателя. «Творческий акт, спровоцированный и подчиненный логике жизни, способен эту самую жизнь выявить наиболее адекватно: субъективное восприятие капитулирует перед логикой объекта этого самого восприятия, подчиняется ему», — ранее было сказано нами[16].
Поскольку жизнь всюду воспринимается субъективно, единственно адекватный способ её объективного выражение есть демонстрация чистого впечатления (по природе своей субъективного), запечатлевающего самотворение жизни. И так как это впечатление не осознанно, идейно и чувственно не статично, то оно не несет авторской программности, исключает авторский диктат.
Ричард Ликок описывает это так: «…Если бы кто-нибудь спросил меня, почему в это мгновение было необходимо снять мужчину, который кладет сахар в кофе (что не имеет никакого отношения ни к чему, о чем я мог думать), я не смог бы объяснить, почему я так поступил»[17].
Это и есть инстинктивная реакция, исключающая всякую априорность автора.
Неспроста, как нам кажется, многие документалисты впоследствии говорили, что сделали бы свой фильм иначе. Но то было бы уже программным, апостериорным авторским мнением, насильственно навязанным действительности. Именно поэтому Марио Рюсполи восхищался операторским мастерством Пьера Ломма в таких словах: «Хороший оператор создаёт художественные образы инстинктивно… От оператора больше не требуется отображать прежде всего «художественное видение» режиссера. От него требуется «жить моментом»… Хорошее знание относительно простой техники и синхронной киносъёмки позволяет оператору «импровизировать изображение»… Я имею ввиду Пьера Ломма, который в течение долгих часов съёмки сохраняет исключительную подвижность камеры, совершенно невероятную способность артистически применяться ко всем неожиданным положениям, продиктованным событиями, протекающими перед камерой»[18].
«Импровизация изображения», по нашему мнению, есть практическое выражение чистого впечатления, адекватного бесконечно меняющейся действительности.
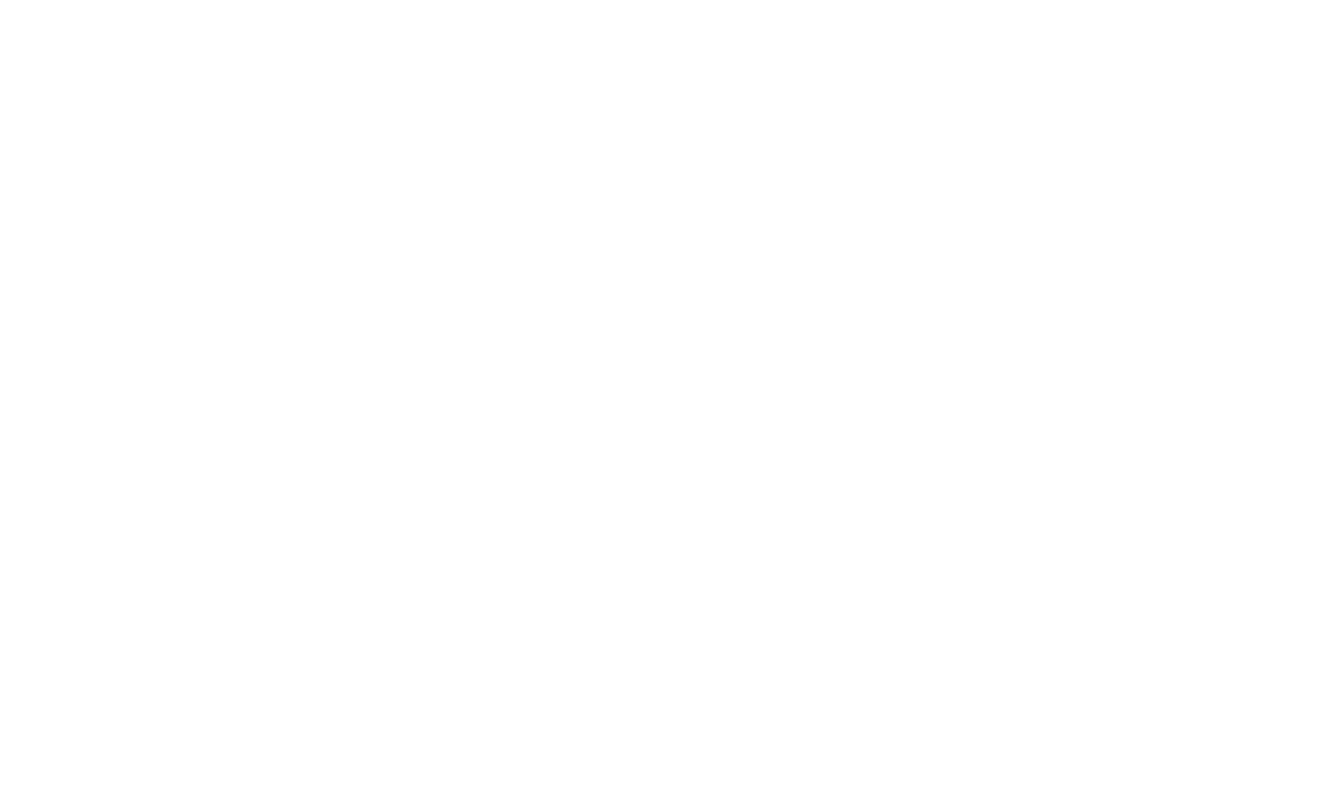
«Коммивояжер», реж. Альберт и Дэвид Майзлес
Подчиненность авторского впечатления суть закономерный результат реакции субъекта на жизненный процесс. Объективная жизнь подчас корректирует ожидания, в большинстве своём исключая любые прогнозы. Так, по рассказу Алана Пеннебейкера, соратника Ричарда Ликока, последний хотел снять траурное событие – похороны ребенка. Однако вместо траура документалист столкнулся с веселым празднеством, что, конечно, его ошеломило. Настолько, что он не смог ничего снять. «Потом он проклинал себя, ибо то, что он увидел, была сама жизнь, а не его представление о ней», — заключает Пеннебейкер[19].
Чистое впечатление, способное воспринять и выразить эти жизненные поправки и изменения, — происходящий независимо от наблюдателя объективный опыт, — отражает разницу между субъективной априорностью (или апостериорностью) и подлинной жизнью, фиксирует в субъективном сознании объективный жизненный процесс.
Разумеется, что в бесконечно меняющейся жизни никакая авторская априорность возникнуть не может – она противоречит самой идее документального кино, самой жизни. То же касается и апостериорного творчества в форме «восстановленного факта», воспроизводящего произошедшее, но не зафиксированное. Апостериорный подход неизбежно искажает подлинное течение жизни, создаёт благоприятную почву для авторского насилия над ним. Наконец, это такая же измена документальному методу, поскольку правда на экране не происходит сама собой, но инсценируется авторской рукой – не больше и не меньше игрового подхода.
Даже Флаэрти, заставлявший участников повторять некоторые действия и написанные загодя диалоги, по словам Ликока, говорил: «А ведь все это очень плохо!!!»[20] Или Жан Руш, к которому, конечно, есть некоторые вопросы, справедливо высказывается на своём опыте раннего творчества: «Снимая охоту на гиппопотама я был вынужден просить африканцев воспроизвести некоторые сцены. Но как бы точно ни было это воспроизведение, мы все же имели дело с подделкой»[21].
В таких условиях единственное, что остается документалисту – просто впечатляться и наблюдать, не закладывая никаких своих суждений. За него всё скажет реальность и его дело – выразить «сказанное» наиболее качественно.
Именно чистое впечатление, не осознанное доопытно, выражающее происходящий опыт – не до, не после него – является единственным способом репрезентации подлинной жизни. Жизни, которая в чистом впечатлении достигает истинного значения объективности – независимости от частной воли частного человека. Ибо каждый человек и его мнение в обстоятельствах жизни оказываются лишь гранью действительности. Чистый документализм обязуется выражать многогранную жизнь, способную вместить любую частную грань, любое субъективное мнение или взгляд, избегая статичных авторских интерпретаций, чуждых жизни.
Кинокамера в силу своей объективной природы не может интерпретировать действительность. Точно также кинодокументалист, руководствующийся чистым впечатлением, фиксирует не априорное мнение и не апостериорное суждение, а происходящий объективный опыт, отпечатанный в субъективном сознании – это, конечно, ещё не интерпретация, но результат восприятия, предшествующий осознанности и всякой мысли. Таким образом, чистое впечатление есть субъективное восприятие объективного – ещё не интерпретированного – явления, отраженное в объективе беспристрастной камеры.
Режиссер-документалист, репрезентуя движение жизни, стушевывается перед ним, подчиняется ему, переходя в положение зрителя: мнения и суждения о снятом в конечном счете возникают апостериори, после просмотра. Снятое буквально диктует автору, равно как и зрителю, понимание, причем такое, которое не может быть исчерпывающим, ибо не заложено в нём априорно. Интерпретация жизни возникает не в самом фильме, отражающем объективные события в чистом субъективном впечатлении, а после него в сознании каждого отдельного зрителя. Всякая же доопытная осознанность убивает чистое впечатление и искажает жизнь, подчиняя её субъективной интерпретации. Равно также умертвляюще действуют и апостериорные побуждения автора к лакировке или, наоборот, к гиперболизации. В итоге выходит подделка. Стало быть, лишь такой фильм вправе называться документальным, какой исключает всякую вложенную в него авторскую интерпретацию, стимулирует герменевтические потенции не внутри, но извне, после просмотра у каждого конкретного зрителя в полноте его субъективности. Автор лишь наблюдатель, равный зрителю. «Перефразируя Ролана Барта, скажем, что там, где жив автор — зритель всегда мертв. И больше того! Там, где автор благоденствует — художественный образ достижимым быть не может…», — так заключили мы в предшествующих публикациях[22].
Зритель, взаимодействуя с интуитивной впечатлительностью автора, не несущей статичных и однозначных смыслов и чувств, возбуждает собственную субъективность: перед ним буквально раскрывается чистое жизненное впечатление, отражающее объективный процесс, впитать которое можно только посредством такого же чистого впечатления. Жизнь, воспринятая этим методом, интуитивной реакцией, на экране побуждает зрителя к аналогичному способу восприятия. Как говорится, клин клином.
Чистое впечатление, способное на экране вместить любого зрителя-субъекта, любую интерпретацию, демонстрирует подлинную и человеческую действительность не как сумму сухих фактов, уравнивающую всякую субъективность, а во всем присущим ей объеме, подлинности, объективности, являющейся результатом коллективного субъективного чистого впечатления.
Таким образом, чистый документализм вовсе не исключает творческий акт, необходимый для определения всякого искусства, но видоизменяет последнее, в некотором смысле преодолевает, дополняя приставкой сверх.
Сверхискусство
Поскольку чистый документализм не исключает творческого акта, а подчиняет его логике самой жизни, лишая, тем самым, самостоятельности (документалист выражает не своё мнение о жизни, но впечатление, реакцию, рожденную в подчинении объективному явлению), следует несколько иначе подойти к вопросу искусства.
Авторская самостоятельность – неизменное условие искусства – в случае с документальным кино невозможна, а значит, казалось бы, невозможно и искусство. Однако документализм, как мы показали выше, не лишает наблюдателя возможности творить, пусть и подчиненно движению действительности. Стало быть, документализм все же искусство.
Чистое впечатление, только реагирующее и запечатлевающее сотворение жизни самое себя, объективный процесс, является творческой субъективностью наблюдателя: ибо у каждого своё воспринимающее сознание. Однако эта субъективность вторична, не самостоятельна в полной мере – это производная реакция от движения жизни. Это и есть понятие сверх-позиции, определяемое нами следующим образом: «...Документальный кинематограф, тесно сплетенный с жизнью, растворяющий автора в жизненном движении, имеет все перспективы достигнуть состояния сверхисскусства. То есть такого, при котором сам факт искусства, авторского творчества преодолевается в пользу экранного сотворения жизни самое себя»[23]. Документалист в меру своих субъективных возможностей лишь реагирует на жизнь, выражая чистым и инстинктивным впечатлением процесс жизненного творения – происходящий реальный опыт. Во главе угла творчество жизни, исчерпывающее творческий взгляд автора.
Зритель, перед лицом которого развивается чистое впечатление, не осознанное, не несущее никаких априорных смыслов и чувств, выступает в конечном счете наравне с документалистом-наблюдателем участником чистого впечатления, выражает его, силясь осмыслить и прочувствовать движение на экране.
И так как жизнь воспринимается каждым человеком по-разному, фильм, поощряющий возможность субъективной зрительской инициативы, аккумулирующий чистое впечатление не только автора, но и зрителя, выражает в наибольшей полноте это объективное свойство действительности.
Герменевтическая вольность (неизбежное качество таких фильмов), порождающая неограниченное количество мнений, подчас взаимоисключающих, является симптомом достижения цели всякого искусства – художественного образа. Ибо как считал Тарковский, «художественный образ может называться так только в том случае, если он замкнут в себе, герметичен и самоценен, невозможен для толкования, ибо он является образом самой жизни, которая тоже не поддается прямолинейному трактованию... Истинно художественный образ всегда побуждает созерцающего его к единовременному переживанию противоречивых, взаимоисключающих чувств, заключённых в образе и определяющих его суть и лжеметафизическую магию»[24].
Документализм, таким образом, можно признать если не искусством, поскольку речи о самостоятельном авторском творчестве не идет, то, конечно, сверхискусством, достигающим искомого художественного образа во всей полноте репрезентуемого жизненного движения, отпечатывающегося в сознании каждого отдельного человека.
Это и есть то, о чем говорил Дзига Вертов, призывая оставить мнимый вопрос искусства.
По этой самой причине к документальному кино ошибочно применять классические художественные мерки.
Надлежит выработать новый аналитический инструментарий, отражающий факт рождение высшего искусства, подлинного сверхискусства, способного выразить самое жизнь «посредством движения».
Чистое впечатление, способное воспринять и выразить эти жизненные поправки и изменения, — происходящий независимо от наблюдателя объективный опыт, — отражает разницу между субъективной априорностью (или апостериорностью) и подлинной жизнью, фиксирует в субъективном сознании объективный жизненный процесс.
Разумеется, что в бесконечно меняющейся жизни никакая авторская априорность возникнуть не может – она противоречит самой идее документального кино, самой жизни. То же касается и апостериорного творчества в форме «восстановленного факта», воспроизводящего произошедшее, но не зафиксированное. Апостериорный подход неизбежно искажает подлинное течение жизни, создаёт благоприятную почву для авторского насилия над ним. Наконец, это такая же измена документальному методу, поскольку правда на экране не происходит сама собой, но инсценируется авторской рукой – не больше и не меньше игрового подхода.
Даже Флаэрти, заставлявший участников повторять некоторые действия и написанные загодя диалоги, по словам Ликока, говорил: «А ведь все это очень плохо!!!»[20] Или Жан Руш, к которому, конечно, есть некоторые вопросы, справедливо высказывается на своём опыте раннего творчества: «Снимая охоту на гиппопотама я был вынужден просить африканцев воспроизвести некоторые сцены. Но как бы точно ни было это воспроизведение, мы все же имели дело с подделкой»[21].
В таких условиях единственное, что остается документалисту – просто впечатляться и наблюдать, не закладывая никаких своих суждений. За него всё скажет реальность и его дело – выразить «сказанное» наиболее качественно.
Именно чистое впечатление, не осознанное доопытно, выражающее происходящий опыт – не до, не после него – является единственным способом репрезентации подлинной жизни. Жизни, которая в чистом впечатлении достигает истинного значения объективности – независимости от частной воли частного человека. Ибо каждый человек и его мнение в обстоятельствах жизни оказываются лишь гранью действительности. Чистый документализм обязуется выражать многогранную жизнь, способную вместить любую частную грань, любое субъективное мнение или взгляд, избегая статичных авторских интерпретаций, чуждых жизни.
Кинокамера в силу своей объективной природы не может интерпретировать действительность. Точно также кинодокументалист, руководствующийся чистым впечатлением, фиксирует не априорное мнение и не апостериорное суждение, а происходящий объективный опыт, отпечатанный в субъективном сознании – это, конечно, ещё не интерпретация, но результат восприятия, предшествующий осознанности и всякой мысли. Таким образом, чистое впечатление есть субъективное восприятие объективного – ещё не интерпретированного – явления, отраженное в объективе беспристрастной камеры.
Режиссер-документалист, репрезентуя движение жизни, стушевывается перед ним, подчиняется ему, переходя в положение зрителя: мнения и суждения о снятом в конечном счете возникают апостериори, после просмотра. Снятое буквально диктует автору, равно как и зрителю, понимание, причем такое, которое не может быть исчерпывающим, ибо не заложено в нём априорно. Интерпретация жизни возникает не в самом фильме, отражающем объективные события в чистом субъективном впечатлении, а после него в сознании каждого отдельного зрителя. Всякая же доопытная осознанность убивает чистое впечатление и искажает жизнь, подчиняя её субъективной интерпретации. Равно также умертвляюще действуют и апостериорные побуждения автора к лакировке или, наоборот, к гиперболизации. В итоге выходит подделка. Стало быть, лишь такой фильм вправе называться документальным, какой исключает всякую вложенную в него авторскую интерпретацию, стимулирует герменевтические потенции не внутри, но извне, после просмотра у каждого конкретного зрителя в полноте его субъективности. Автор лишь наблюдатель, равный зрителю. «Перефразируя Ролана Барта, скажем, что там, где жив автор — зритель всегда мертв. И больше того! Там, где автор благоденствует — художественный образ достижимым быть не может…», — так заключили мы в предшествующих публикациях[22].
Зритель, взаимодействуя с интуитивной впечатлительностью автора, не несущей статичных и однозначных смыслов и чувств, возбуждает собственную субъективность: перед ним буквально раскрывается чистое жизненное впечатление, отражающее объективный процесс, впитать которое можно только посредством такого же чистого впечатления. Жизнь, воспринятая этим методом, интуитивной реакцией, на экране побуждает зрителя к аналогичному способу восприятия. Как говорится, клин клином.
Чистое впечатление, способное на экране вместить любого зрителя-субъекта, любую интерпретацию, демонстрирует подлинную и человеческую действительность не как сумму сухих фактов, уравнивающую всякую субъективность, а во всем присущим ей объеме, подлинности, объективности, являющейся результатом коллективного субъективного чистого впечатления.
Таким образом, чистый документализм вовсе не исключает творческий акт, необходимый для определения всякого искусства, но видоизменяет последнее, в некотором смысле преодолевает, дополняя приставкой сверх.
Сверхискусство
Поскольку чистый документализм не исключает творческого акта, а подчиняет его логике самой жизни, лишая, тем самым, самостоятельности (документалист выражает не своё мнение о жизни, но впечатление, реакцию, рожденную в подчинении объективному явлению), следует несколько иначе подойти к вопросу искусства.
Авторская самостоятельность – неизменное условие искусства – в случае с документальным кино невозможна, а значит, казалось бы, невозможно и искусство. Однако документализм, как мы показали выше, не лишает наблюдателя возможности творить, пусть и подчиненно движению действительности. Стало быть, документализм все же искусство.
Чистое впечатление, только реагирующее и запечатлевающее сотворение жизни самое себя, объективный процесс, является творческой субъективностью наблюдателя: ибо у каждого своё воспринимающее сознание. Однако эта субъективность вторична, не самостоятельна в полной мере – это производная реакция от движения жизни. Это и есть понятие сверх-позиции, определяемое нами следующим образом: «...Документальный кинематограф, тесно сплетенный с жизнью, растворяющий автора в жизненном движении, имеет все перспективы достигнуть состояния сверхисскусства. То есть такого, при котором сам факт искусства, авторского творчества преодолевается в пользу экранного сотворения жизни самое себя»[23]. Документалист в меру своих субъективных возможностей лишь реагирует на жизнь, выражая чистым и инстинктивным впечатлением процесс жизненного творения – происходящий реальный опыт. Во главе угла творчество жизни, исчерпывающее творческий взгляд автора.
Зритель, перед лицом которого развивается чистое впечатление, не осознанное, не несущее никаких априорных смыслов и чувств, выступает в конечном счете наравне с документалистом-наблюдателем участником чистого впечатления, выражает его, силясь осмыслить и прочувствовать движение на экране.
И так как жизнь воспринимается каждым человеком по-разному, фильм, поощряющий возможность субъективной зрительской инициативы, аккумулирующий чистое впечатление не только автора, но и зрителя, выражает в наибольшей полноте это объективное свойство действительности.
Герменевтическая вольность (неизбежное качество таких фильмов), порождающая неограниченное количество мнений, подчас взаимоисключающих, является симптомом достижения цели всякого искусства – художественного образа. Ибо как считал Тарковский, «художественный образ может называться так только в том случае, если он замкнут в себе, герметичен и самоценен, невозможен для толкования, ибо он является образом самой жизни, которая тоже не поддается прямолинейному трактованию... Истинно художественный образ всегда побуждает созерцающего его к единовременному переживанию противоречивых, взаимоисключающих чувств, заключённых в образе и определяющих его суть и лжеметафизическую магию»[24].
Документализм, таким образом, можно признать если не искусством, поскольку речи о самостоятельном авторском творчестве не идет, то, конечно, сверхискусством, достигающим искомого художественного образа во всей полноте репрезентуемого жизненного движения, отпечатывающегося в сознании каждого отдельного человека.
Это и есть то, о чем говорил Дзига Вертов, призывая оставить мнимый вопрос искусства.
По этой самой причине к документальному кино ошибочно применять классические художественные мерки.
Надлежит выработать новый аналитический инструментарий, отражающий факт рождение высшего искусства, подлинного сверхискусства, способного выразить самое жизнь «посредством движения».
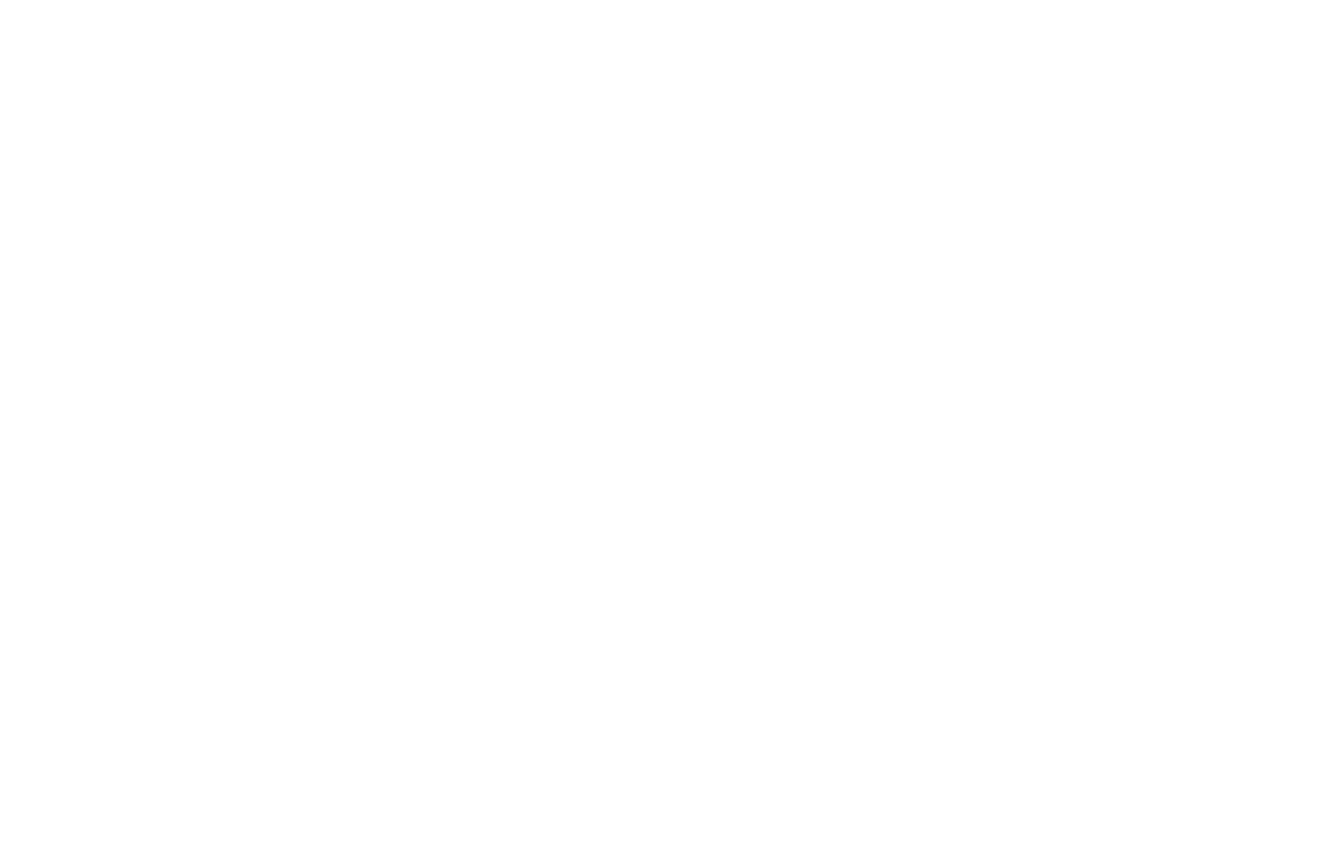
«Предварительные выборы», реж. Роберт Дрю
Спекулятивный документализм
Ошибочно полагать, будто любой подход к документу, любой документальный фильм возможно причислить к рядам чистого документализма. Последний, руководствуясь чистым впечатлением, выражает происходящий в данный момент опыт и не терпит никаких авторских спекуляций – априорных или апостериорных. Верно рассуждали некоторые наиболее сознательные документалисты, чьи мнения следует привести повторно.
Альберт Майзелс, один из адептов «неуправляемого кино», прямо декларировал: «Жизнь настолько реальна и истинна, что никакая априорная концепция не позволит такое выдумать... Я документалист, стремящийся воплощать живую историю, и потому я против такого фильма, который, по существу, уже готов до начала съемок»[25].
Неоднократно упоминавшийся Ричард Ликок на примере своей ранней работы с Флаэрти говорил, что «поработав с Флаэрти, я снял ещё много документальных фильмов. На мой взгляд, все они являли собой прямую противоположность тому, что, казалось бы, предписывала сама идея документального фильма, а именно: отыскивать события и видеть их такими, каковы они в действительности. Потому что, как правило, события инсценировались. Мне это все меньше и меньше нравилось...»[26]
Крис Маркер, автор известного документального фильма «Прекрасный месяц май» (1968), определял свой метод следующим образом: «Вначале я руководствовался сценарным планом, предусматривавшим ряд интервью на разные темы. Однако в ходе осуществления этого плана многие темы сплошь и рядом давали не тот материал, что я ожидал, да и взаимосвязь отдельных тем порой шла вразрез с моими первоначальными намерениями. В реальной жизни открывались иные связи, порой благодаря какому-либо одному кадру. Фильм становился самостоятельным организмом и развивался по собственным законам... То неожиданное, что было "наиграно" на пленку реальностью... я должен был упорядочить согласно законам, диктуемым самим материалом»[27]. (Впрочем, в случае с этим французским документалистом следует написать отдельную работу – слишком уж много спорных моментов).
Наконец, немецкий документалист Винфрид Юнге, на протяжении более 20 лет снимавший детей из Гольцова, утверждал, что «доверять жизни, представлять ей идти своим чередом — эта позиция представляет собой несомненное достижение нашего документального кино. Самым типичным примером в этом отношении может служить наша хроника. Сценарий в ней пишет для нас сама жизнь. Во многом это оберегает нас от соблазна учинить насилие над действительностью во имя создания "красивого" фильма»[28].
Однако не смотря на наличие выдающихся документалистов, творящих или творивших не менее выдающиеся кино-вещи, ужасающе колоссальная часть документальных фильмов и сегодня строится по принципу авторской осознанности – априорной или апостериорной. Это явление обнаруживается даже среди условных «авангардистов», «новаторов», подвергающихся на этой почве закономерной и оправданной критике. В качестве примера можно привести критическое суждение Эрвина Лейзера на счет фильма Жана Руша «Хроники одного лета» (1961): «Руш и Морен хотели видеть свой объект «независимым, спонтанным» и отразить «жизнь такой, какова она есть». Но свои импровизации они очень тщательно организовывали, избегая определенных проблем, а во время долгих споров в паузах и во время съемок оказывали влияние на мнения, высказываемые в фильме… Справедливо указывалось, что участники фильма постепенно стали думать так же, как Морен…»[29]. В этой же связи особенно доказательным звучит мнение Валеро, высказанное в дискуссии на предмет «синема верите» по поводу всё того же рушевского фильма: «То, что он называет «киноправдой», в действительности создано им самим»[30].
И априорность, и апостериорность «учиняют насилие над действительностью». Определенный, ограниченный до жизненного движения или скорректированный и отредактированный после действительный опыт в результате исключает чистоту впечатления, исчерпывает кино-полотно авторской концепцией, создавая объективные относительно зрительского глаза статичные смыслы и чувства. С ними можно согласиться, можно не согласиться, но сам факт такой строгой полярности вскрывает четко ощутимый авторский диктат, которому мы уже посвящали две публикации ранее[30].
Напомним, как Ричард Ликок, вскрывая идеологически-концептуальные априорные основания фильма Йориса Ивенса «Испанская земля» (1937), определял сущность последнего: «тех, кто не был согласен с концепцией автора, фильм отталкивал, а тем, кто разделял его идеи, он нравился...»[31]. Не больше и не меньше. Такая полярность мнений («за» или «против»; «нравится» или «нет») свидетельствует о вполне конкретной смысловой нагрузке авторского фильма, возникающей для «своих» супротив «чужих», для особенно верных ценителей того или иного автора и его мнения. «Свобода» интерпретаций в этом случае оказывается ограниченной проложенным автором вектором собственного формально-содержательного творения. Примитивное соглашательство или не менее примитивное отрицание. Вкусовщина, возведённая в абсолют. Ни о каком сверхискусстве здесь речи идти не может.
Документальные фильмы, выстроенные априорно, не чураются идеологически верного (в соответствии с теми или иными авторскими смыслами) отбора жизненного материала, его априорной интерпретации. Главная цель такого кинотворчества – доказать авторскую позицию, внедрить суждение автора в сознание пассивного зрителя. А жизнь в этом случае выступает как бы облагораживающим эту позицию спекулятивным ресурсом: раз документально, то и мнение обосновано. В том же ключе действует апостериорное творчество, которое вполне допускает театральные инсценировки («восстановленный факт») и другие формы вливания иных художеств, исключающих самостоятельность киноискусства (к примеру, дикторский текст, относительно которого изображение и запечатленное на нём движение жизни выступает примитивной иллюстрацией).
Эти предостережения звучат в статье уже цитируемого нами Винфрида Юнге: «Стремление сообщить зрителю нечто важное о новом человеке приводило к появлению ряда интервью с заранее выбранными, порой весьма известными героями — содержание этих интервью сплошь и рядом намечалось уже в сценарии. Документальное кино... мыслилось как искусство, призванное воплотить "завтрашний день в дне сегодняшнем"»[32]. По поводу дикторского текста в равной мере справедливо вспомнить суждение ангольского документалиста Хосе Луандино Виейра Граса: «Мой шестилетний опыт работы в документальном кино укрепил меня во мнении, что эстетике документального кино лишь там уделяется должное внимание, где дикторский текст не превалирует над образным воздействием. Все, что может быть выражено посредством изображения и звука, не нуждается в комментарии, особенно в таком, при котором изображение уже и не обязательно»[33].
Оба этих подхода (априорный и апостериорный) лишь спекулируют на жизненном материале, обслуживают авторский диктат посредством жизни, облагораживают его. Это правдоподобие личного мнения, а отнюдь не жизненная правда.
Спекулятивный документализм, извращающий природу документального кино, искажающий в априорной или апостериорной интерпретации самую жизнь на благо авторской позиции, стремится к лагерю игрового кино. К лагерю, в котором активно промышляют интерпретацией и искажением, выдумкой, отвечающей логике авторской интенции.
Ошибочно полагать, будто любой подход к документу, любой документальный фильм возможно причислить к рядам чистого документализма. Последний, руководствуясь чистым впечатлением, выражает происходящий в данный момент опыт и не терпит никаких авторских спекуляций – априорных или апостериорных. Верно рассуждали некоторые наиболее сознательные документалисты, чьи мнения следует привести повторно.
Альберт Майзелс, один из адептов «неуправляемого кино», прямо декларировал: «Жизнь настолько реальна и истинна, что никакая априорная концепция не позволит такое выдумать... Я документалист, стремящийся воплощать живую историю, и потому я против такого фильма, который, по существу, уже готов до начала съемок»[25].
Неоднократно упоминавшийся Ричард Ликок на примере своей ранней работы с Флаэрти говорил, что «поработав с Флаэрти, я снял ещё много документальных фильмов. На мой взгляд, все они являли собой прямую противоположность тому, что, казалось бы, предписывала сама идея документального фильма, а именно: отыскивать события и видеть их такими, каковы они в действительности. Потому что, как правило, события инсценировались. Мне это все меньше и меньше нравилось...»[26]
Крис Маркер, автор известного документального фильма «Прекрасный месяц май» (1968), определял свой метод следующим образом: «Вначале я руководствовался сценарным планом, предусматривавшим ряд интервью на разные темы. Однако в ходе осуществления этого плана многие темы сплошь и рядом давали не тот материал, что я ожидал, да и взаимосвязь отдельных тем порой шла вразрез с моими первоначальными намерениями. В реальной жизни открывались иные связи, порой благодаря какому-либо одному кадру. Фильм становился самостоятельным организмом и развивался по собственным законам... То неожиданное, что было "наиграно" на пленку реальностью... я должен был упорядочить согласно законам, диктуемым самим материалом»[27]. (Впрочем, в случае с этим французским документалистом следует написать отдельную работу – слишком уж много спорных моментов).
Наконец, немецкий документалист Винфрид Юнге, на протяжении более 20 лет снимавший детей из Гольцова, утверждал, что «доверять жизни, представлять ей идти своим чередом — эта позиция представляет собой несомненное достижение нашего документального кино. Самым типичным примером в этом отношении может служить наша хроника. Сценарий в ней пишет для нас сама жизнь. Во многом это оберегает нас от соблазна учинить насилие над действительностью во имя создания "красивого" фильма»[28].
Однако не смотря на наличие выдающихся документалистов, творящих или творивших не менее выдающиеся кино-вещи, ужасающе колоссальная часть документальных фильмов и сегодня строится по принципу авторской осознанности – априорной или апостериорной. Это явление обнаруживается даже среди условных «авангардистов», «новаторов», подвергающихся на этой почве закономерной и оправданной критике. В качестве примера можно привести критическое суждение Эрвина Лейзера на счет фильма Жана Руша «Хроники одного лета» (1961): «Руш и Морен хотели видеть свой объект «независимым, спонтанным» и отразить «жизнь такой, какова она есть». Но свои импровизации они очень тщательно организовывали, избегая определенных проблем, а во время долгих споров в паузах и во время съемок оказывали влияние на мнения, высказываемые в фильме… Справедливо указывалось, что участники фильма постепенно стали думать так же, как Морен…»[29]. В этой же связи особенно доказательным звучит мнение Валеро, высказанное в дискуссии на предмет «синема верите» по поводу всё того же рушевского фильма: «То, что он называет «киноправдой», в действительности создано им самим»[30].
И априорность, и апостериорность «учиняют насилие над действительностью». Определенный, ограниченный до жизненного движения или скорректированный и отредактированный после действительный опыт в результате исключает чистоту впечатления, исчерпывает кино-полотно авторской концепцией, создавая объективные относительно зрительского глаза статичные смыслы и чувства. С ними можно согласиться, можно не согласиться, но сам факт такой строгой полярности вскрывает четко ощутимый авторский диктат, которому мы уже посвящали две публикации ранее[30].
Напомним, как Ричард Ликок, вскрывая идеологически-концептуальные априорные основания фильма Йориса Ивенса «Испанская земля» (1937), определял сущность последнего: «тех, кто не был согласен с концепцией автора, фильм отталкивал, а тем, кто разделял его идеи, он нравился...»[31]. Не больше и не меньше. Такая полярность мнений («за» или «против»; «нравится» или «нет») свидетельствует о вполне конкретной смысловой нагрузке авторского фильма, возникающей для «своих» супротив «чужих», для особенно верных ценителей того или иного автора и его мнения. «Свобода» интерпретаций в этом случае оказывается ограниченной проложенным автором вектором собственного формально-содержательного творения. Примитивное соглашательство или не менее примитивное отрицание. Вкусовщина, возведённая в абсолют. Ни о каком сверхискусстве здесь речи идти не может.
Документальные фильмы, выстроенные априорно, не чураются идеологически верного (в соответствии с теми или иными авторскими смыслами) отбора жизненного материала, его априорной интерпретации. Главная цель такого кинотворчества – доказать авторскую позицию, внедрить суждение автора в сознание пассивного зрителя. А жизнь в этом случае выступает как бы облагораживающим эту позицию спекулятивным ресурсом: раз документально, то и мнение обосновано. В том же ключе действует апостериорное творчество, которое вполне допускает театральные инсценировки («восстановленный факт») и другие формы вливания иных художеств, исключающих самостоятельность киноискусства (к примеру, дикторский текст, относительно которого изображение и запечатленное на нём движение жизни выступает примитивной иллюстрацией).
Эти предостережения звучат в статье уже цитируемого нами Винфрида Юнге: «Стремление сообщить зрителю нечто важное о новом человеке приводило к появлению ряда интервью с заранее выбранными, порой весьма известными героями — содержание этих интервью сплошь и рядом намечалось уже в сценарии. Документальное кино... мыслилось как искусство, призванное воплотить "завтрашний день в дне сегодняшнем"»[32]. По поводу дикторского текста в равной мере справедливо вспомнить суждение ангольского документалиста Хосе Луандино Виейра Граса: «Мой шестилетний опыт работы в документальном кино укрепил меня во мнении, что эстетике документального кино лишь там уделяется должное внимание, где дикторский текст не превалирует над образным воздействием. Все, что может быть выражено посредством изображения и звука, не нуждается в комментарии, особенно в таком, при котором изображение уже и не обязательно»[33].
Оба этих подхода (априорный и апостериорный) лишь спекулируют на жизненном материале, обслуживают авторский диктат посредством жизни, облагораживают его. Это правдоподобие личного мнения, а отнюдь не жизненная правда.
Спекулятивный документализм, извращающий природу документального кино, искажающий в априорной или апостериорной интерпретации самую жизнь на благо авторской позиции, стремится к лагерю игрового кино. К лагерю, в котором активно промышляют интерпретацией и искажением, выдумкой, отвечающей логике авторской интенции.
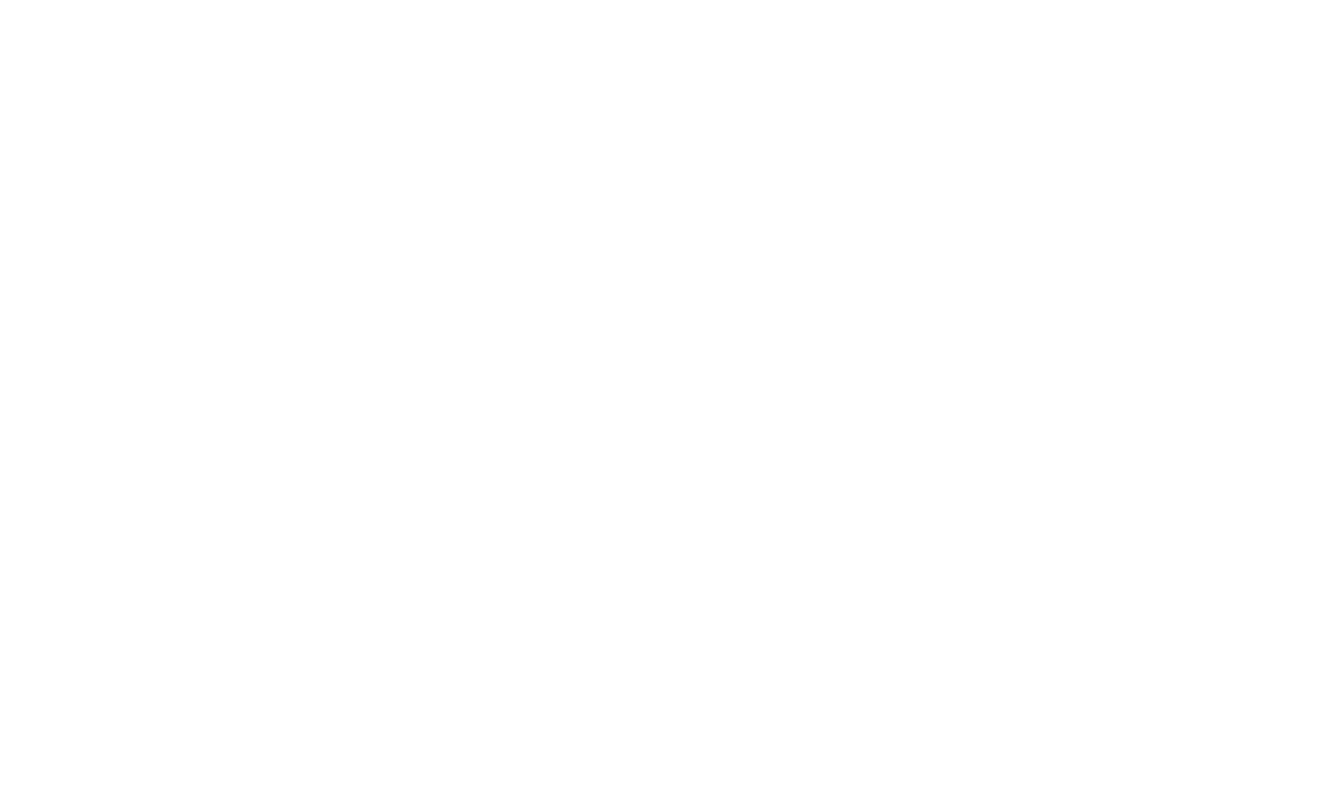
«Прекрасный май», реж. Крис Маркер
Так, американский документалист Лайонел Рогозин в случае со своим фильмом «Вернись, Африка!» всерьез рассуждает на предмет эйзенштейновского типажа в качестве художественного инструмента документалистики. В его рассуждениях вскрывается узловое противоречие, где, с одной стороны, критикуется стремление автора воспроизвести самого себя на экране, а с другой – вполне допускаются инсценировки, откровенно игровые (пусть и «промежуточные») категории. Рогозин, видимо, не осознавал, или скрывал сознание того, что за ними и скрывается столь ненавистный ему (на первый взгляд) авторский диктат[34]. В конечном счете рождаются фильмы, которые Вертов иронично называл «актерскими фильмами в киноглазовских штанах»[35]. Это та «промежуточная» эйзенштеновская спекуляция, какую истинные «вертовцы» стремительно преодолевают в пользу самой жизни.
В случае со спекулятивным документализмом не такими уж сомнительными представляются мнения некоторых режиссеров, оправдывающих приобщение к документу сугубо игрового метода.
Так рассуждает, к примеру, Патрисио Гуссман, автор серии фильмов «Битва за Чили» и сторонник употребления игрового метода: «Даже если исторический момент предоставляет документалисту максимум драматических событий, это не снимает с него обязанности воплотить их в художественной форме, согласно своей личной концепции, собственному замыслу»[36].
Многие документалисты, беззастенчиво промышляющие документальной спекуляцией (априорным или апостериорным искажением жизни), впоследствии оказались в игровом лагере. Это те документалисты, целью которых была не своевольная жизнь, но самореализация и самовоспроизведение собственного лица на экране. Впрочем, самый их метод тяготел отнюдь не к документализму, но к авторской рукотворности, составляющей фундамент игрового кино: везде и всюду там царят интерпретация и искажение, подчинение жизненного движения руке автора. А значит, такой переход вполне закономерен и, более того, полезен для чистого документализма: так естественным образом животворные семена очищаются он гниющих, плодящих грязь плевел.
Вместо заключения
Смерть киноискусства — рождение сверхискусства кино
«Мы утверждаем будущее киноискусства отрицанием его настоящего. Смерть «кинематографии» необходима для жизни киноискусства. Мы призываем ускорить смерть ее…», — писал в киноческом манифесте Дзига Вертов[37].
Для чистого документализма, воплощающего сверхискусство подлинного кино, игровой кинематограф и спекулятивный документализм представляются отжившими этапами, архаизмом ошибочного прошлого, какой следует непременно преодолеть.
Достигая сверх-позиции, чистый документализм преодолевает само понятие киноискусства, умертвляя его перед свои лицом. Настоящему сообществу надлежит обосноваться в авангарде этого процесса, возбуждая интерес к документализму и популяризуя его среди кинематографических кругов.
ДОКУМ-ХРОНИК продолжает активное наступление на фронте борьбы за суверенное кино, развивает сформулированный Вертовым фундамент, воплощая мечту наиболее сознательных кинематографистов.
И пусть перед чистым документализмом падёт всякое искусство, в том числе и кино, какое не дотягивает до сверх-позиции. Неспроста французский документалист Франсуа Рейшенбах говорил, что «в конце концов, когда меня заставят следовать кинематографическим канонам, я откажусь от кинематографа»[38].
Также и ДОКУМ-ХРОНИК стремительно отказывается от киноискусства на пути к сверхискусству кино.
И ВООБЩЕ, ПОЖАЛУЙТЕ В ЖИЗНЬ!
ПРИМЕЧАНИЯ
[1,9] https://cinetexts.ru/experimental_cinema
[2] Андрей Тарковский, «Запечатленное время»
[3] Зигфрид Кракауэр, «Природа фильма»
[4, 11] Цит. по книге Гуидо Аристарко «История теорий кино»
[5] Артавазд Пелешян, «Дистанционный монтаж»
[6] Из выступления Ежи Боссака в дискуссии «Третье направление?», цит. по сборнику «Правда кино и киноправда»
[7, 37] Дзига Вертов, киноческий манифест «Мы»
[8] «Беседа о методе» с Ежи Боссаком, цит. по сборнику «Правда кино и киноправда»
[10] Дзига Вертов, «Киноки. Переворот»
[12, 23] https://vk.com/entr.acte?w=wall-201714150_489
[13] См. беседу Жоржа Садуля с Ричардом Ликоком в сборнике «Правда кино и киноправда»
[14, 17, 19, 20] Интервью Гидеона Бахмана с Ричардом Ликоком в сборнике «Правда кино и киноправда»
[15] Марсель Мартен, «Киноправда»
[16, 22] https://vk.com/entr.acte?w=wall-201714150_488
[18]Марио Рюсполи, «Заметки о «прямом кино» и так называемой «киноправде»»
[21] Цит. по статье Жана Гроба «Жан Руш, или От этнологии к искусству»
[24] Андрей Тарковский, «Курс лекций по кинорежиссуре»
[25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36] См. книгу Германа Герлингхауза «Кинодокументалисты мира в битвах нашего времени»
[29] Эрвин Лейзер, «Камера лжет»
[30] См. дискуссию «Киноправда или мертворожденное кино?» в сборнике «Правда кино или киноправда»
[34] Лайонел Рогозин, «Действительность и её интерпретация»
[35] Дзига Вертов, «Из наследия. Статьи и выступления»
[38] Интервью с Франсуа Рейшенбахом «Необычный кинематографист»
В случае со спекулятивным документализмом не такими уж сомнительными представляются мнения некоторых режиссеров, оправдывающих приобщение к документу сугубо игрового метода.
Так рассуждает, к примеру, Патрисио Гуссман, автор серии фильмов «Битва за Чили» и сторонник употребления игрового метода: «Даже если исторический момент предоставляет документалисту максимум драматических событий, это не снимает с него обязанности воплотить их в художественной форме, согласно своей личной концепции, собственному замыслу»[36].
Многие документалисты, беззастенчиво промышляющие документальной спекуляцией (априорным или апостериорным искажением жизни), впоследствии оказались в игровом лагере. Это те документалисты, целью которых была не своевольная жизнь, но самореализация и самовоспроизведение собственного лица на экране. Впрочем, самый их метод тяготел отнюдь не к документализму, но к авторской рукотворности, составляющей фундамент игрового кино: везде и всюду там царят интерпретация и искажение, подчинение жизненного движения руке автора. А значит, такой переход вполне закономерен и, более того, полезен для чистого документализма: так естественным образом животворные семена очищаются он гниющих, плодящих грязь плевел.
Вместо заключения
Смерть киноискусства — рождение сверхискусства кино
«Мы утверждаем будущее киноискусства отрицанием его настоящего. Смерть «кинематографии» необходима для жизни киноискусства. Мы призываем ускорить смерть ее…», — писал в киноческом манифесте Дзига Вертов[37].
Для чистого документализма, воплощающего сверхискусство подлинного кино, игровой кинематограф и спекулятивный документализм представляются отжившими этапами, архаизмом ошибочного прошлого, какой следует непременно преодолеть.
Достигая сверх-позиции, чистый документализм преодолевает само понятие киноискусства, умертвляя его перед свои лицом. Настоящему сообществу надлежит обосноваться в авангарде этого процесса, возбуждая интерес к документализму и популяризуя его среди кинематографических кругов.
ДОКУМ-ХРОНИК продолжает активное наступление на фронте борьбы за суверенное кино, развивает сформулированный Вертовым фундамент, воплощая мечту наиболее сознательных кинематографистов.
И пусть перед чистым документализмом падёт всякое искусство, в том числе и кино, какое не дотягивает до сверх-позиции. Неспроста французский документалист Франсуа Рейшенбах говорил, что «в конце концов, когда меня заставят следовать кинематографическим канонам, я откажусь от кинематографа»[38].
Также и ДОКУМ-ХРОНИК стремительно отказывается от киноискусства на пути к сверхискусству кино.
И ВООБЩЕ, ПОЖАЛУЙТЕ В ЖИЗНЬ!
ПРИМЕЧАНИЯ
[1,9] https://cinetexts.ru/experimental_cinema
[2] Андрей Тарковский, «Запечатленное время»
[3] Зигфрид Кракауэр, «Природа фильма»
[4, 11] Цит. по книге Гуидо Аристарко «История теорий кино»
[5] Артавазд Пелешян, «Дистанционный монтаж»
[6] Из выступления Ежи Боссака в дискуссии «Третье направление?», цит. по сборнику «Правда кино и киноправда»
[7, 37] Дзига Вертов, киноческий манифест «Мы»
[8] «Беседа о методе» с Ежи Боссаком, цит. по сборнику «Правда кино и киноправда»
[10] Дзига Вертов, «Киноки. Переворот»
[12, 23] https://vk.com/entr.acte?w=wall-201714150_489
[13] См. беседу Жоржа Садуля с Ричардом Ликоком в сборнике «Правда кино и киноправда»
[14, 17, 19, 20] Интервью Гидеона Бахмана с Ричардом Ликоком в сборнике «Правда кино и киноправда»
[15] Марсель Мартен, «Киноправда»
[16, 22] https://vk.com/entr.acte?w=wall-201714150_488
[18]Марио Рюсполи, «Заметки о «прямом кино» и так называемой «киноправде»»
[21] Цит. по статье Жана Гроба «Жан Руш, или От этнологии к искусству»
[24] Андрей Тарковский, «Курс лекций по кинорежиссуре»
[25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36] См. книгу Германа Герлингхауза «Кинодокументалисты мира в битвах нашего времени»
[29] Эрвин Лейзер, «Камера лжет»
[30] См. дискуссию «Киноправда или мертворожденное кино?» в сборнике «Правда кино или киноправда»
[34] Лайонел Рогозин, «Действительность и её интерпретация»
[35] Дзига Вертов, «Из наследия. Статьи и выступления»
[38] Интервью с Франсуа Рейшенбахом «Необычный кинематографист»